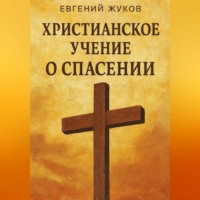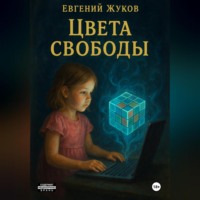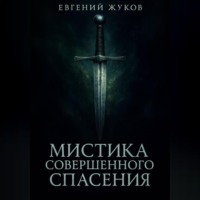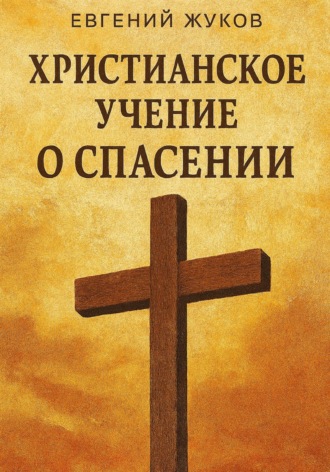
Полная версия
Христианское учение о спасении
Также, важным элементом знания о Боге является совесть. Апостол Павел продолжает в Послании к Римлянам:
«Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14–15).
Некоторые богословы универсалисты приводят эту цитату, которая якобы должна «спасать» всех людей, которые не веруют во Христа, но живут по совести. Однако, как мы видим из контекста, все как раз наоборот. Это все делает людей «неизвинительными», а не оправданными. Имея совесть и хоть раз преступив ее повеления, человек становится преступником Божественного закона и подлежит как Адам изгнанию и смерти. В этом мысль Павла. А не в том, что «живущие по совести имеют шанс на спасение».
Праведность язычников и иудеев до Христа
Вопрос о возможности истинного богопознания в падшем мире проходит красной нитью через все Писание. От пророческого обличения Осии, указывающего на отсутствие подлинного богопознания на земле, до новозаветного учения о познании Бога только через Христа, библейское свидетельство остается последовательным – падшее человечество не имеет доступа к спасительному знанию Бога. Есть многие христианские мыслители и пастыри, которые утверждают, что, люди, жившие «по совести» или по законам своей религии также будут спасены, вне зависимости от их отношения к Христу в земной жизни.
Священное Писание проводит фундаментальное различие между интеллектуальным осознанием существования Бога и личным познанием Его через опыт общения. В греческом языке Нового Завета это различие выражается не столько разными терминами, сколько разными смысловыми оттенками одних и тех же слов, в зависимости от их контекста.
Глагол «γινώσκω» (познавать) используется в Новом Завете в различных значениях. В некоторых случаях он обозначает общее и неопределенное знание – обычную интеллектуальную осведомленность, как, например, в словах Христа: «Вы знаете (γινώσκετε), как различать лицо неба» (Мф. 16:3). В других контекстах этот же глагол указывает на особое, глубоко личностное познание через непосредственный опыт. Существительное «διάνοια» (разум, мысль) также не противопоставляется этому личностному познанию, но может выступать как инструмент для него. Как говорит апостол Иоанн: «Сын Божий пришел и дал нам разум (διάνοιαν), да познаем (γινώσκωμεν) Бога истинного» (1 Ин. 5:20).
Именно второй тип познания Бога является спасительным. В этом смысле глагол «γινώσκω» используется также для описания интимной близости между супругами, указывая на глубокую, личностную природу настоящего богопознания. Когда Иисус говорит, что «жизнь вечная в том, чтобы знать Тебя» (Ин. 17:3), Он подразумевает именно этот смысл – речь идет не о теоретическом понимании, но о личном общении.
Новозаветное свидетельство однозначно – никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому Сын хочет открыть (Мф. 11:27). Это исключительное право Христа – раскрывать истинную природу Бога. Без этого откровения человечество остается во тьме, даже при наличии религиозного рвения или интеллектуального осознания существования высшей силы.
Дохристианское человечество, включая ветхозаветных праведников, могло иметь определенный уровень понимания Бога, но не то спасительное познание, о котором говорит Новый Завет. Язычники совершенно не заботились иметь Бога в разуме, за что и были преданы превратному уму (Рим. 1:28). Иудеи имели закон и пророков, но их познание оставалось неполным и несовершенным.
Положение ветхозаветных праведников представляет особую сложность. С одной стороны, они жили в рамках заветных отношений с Богом, получали откровения, проявляли веру. С другой стороны, они не имели того полного откровения, которое принес Христос, и не могли иметь совершенного спасительного познания Бога.
Моисей, Авраам, Давид и другие праведники Ветхого Завета были орудиями Божьими, через которых Он действовал в мире. Они имели определенные отношения с Богом, но эти отношения не давали им «жизни вечной» в том смысле, о котором говорит Христос. Их праведность, при всей своей искренности, не могла быть совершенной.
Если бы законническая праведность – будь то праведность язычников по закону совести или иудеев по закону Моисееву – была достаточной для спасения, то жертва Христа стала бы излишней. Как пишет апостол Павел: «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21). Сама необходимость крестной смерти Спасителя свидетельствует о невозможности спасения через человеческую праведность.
Я глубоко убежден, что вся библейская линия свидетельствует об исключительности Христа как единственного пути спасения. Праведники Ветхого Завета спасались не своей праведностью, но верой в грядущего Мессию, чья жертва имела ретроспективную силу.
Их положение можно сравнить с положением человека, получившего кредит под будущее обеспечение. Они жили в состоянии «отсрочки платежа», и окончательное их спасение зависело от того, что Христос действительно исполнит все обетования.
Идея о возможности спасения вне Христа – через естественное богопознание или через закон Моисеев – подрывает центральное учение Нового Завета об исключительности и необходимости жертвы Спасителя. Если множество путей ведут к спасению, то зачем был необходим крест? Если праведность по закону достаточна, то для чего Сыну Божию принимать мучительную смерть?
Подлинное богопознание, дающее жизнь вечную, возможно только через Христа и только после возрождения от Духа. Вне этого остается лишь интеллектуальное осознание существования высшей силы, которое объединяет христиан с последователями других религий, но не дает им спасения. Только во Христе открывается полнота Божества, только через Него мы можем познать Отца тем спасительным знанием, которое есть жизнь вечная.
Свидетельства Писания
Ос. 4:1 «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле».
1 Кор. 1:21 «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».
1 Рим. 1:28,32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства… Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти».
2 Фес. 1:8 «В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа».
Еф. 4:18,20–21 «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их… Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе».
И самое главное:
Мф. 7:23 «И тогда объявлю им: “Я никогда не знал (ἔγνων) вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”».
Ин. 17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
1 Ин. 5:20 «Знаем (οἴδαμεν) также, что Сын Божий пришел и дал нам разум, да познаем (γινώσκωμεν) Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе».
Ин. 8:55 «И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его».
Ин. 10:15 «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец».
Мф. 11:27 «Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
Неизвинительность
В Рим. 1:20 и 2:1 греческое слово «ἀναπολόγητος» означает «неизвинительность», «безответность». Переводится и понимается всеми в одном смысле: люди под гневом и не могут оправдаться невежеством: «Ибо что невидимо – как Его вечная сила и божественность, – то от создания мира открывается человеку в размышлении о сотворенном Богом мире» (Рим. 1:20; перевод Десницкого). Я не хотел бы начинать приводить тексты церковных учителей, но в данном случае есть абсолютное согласие среди всех насчет однозначного понимания «неизвинительности» для язычников.
А в 3-й главе апостол Павел переходит с язычников на иудеев и говорит:
«Мы же знаем: если подчиняться закону, то целиком, без изъятия. Так что нечего тут говорить: весь мир подлежит Божьему суду. Никто из людей не достигнет праведности перед Ним соблюдением закона, закон дает человеку лишь представление о грехе» (Рим. 3:19–20; перевод Десницкого).
И да, здесь стоит другое прилагательное – «ὑπόδικος» – подлежать суду, быть подсудным, как говорят некоторые. Однако результат этого суда не в том, что кто-то оправдается, а в том, что «кто полагается на соблюдение закона, на того падает проклятие, ведь написано: “Проклят всякий, кто не сохраняет всего написанного в книге закона и не соблюдает этого”» (Гал. 3:10; перевод Десницкого).
Таким образом, апостол Павел, начав с причины неизвинительности язычников, затем указывает на неизвинительность иудеев и заключает: «Все они согрешили и лишились славы Божьей» (Рим. 3:23; перевод Десницкого). И уже затем, показав в трех главах полную безответность, вину, грех, вражду между человеком – как язычником, так и иудеем – и Богом, апостол пишет:
«Все они согрешили и лишились славы Божьей, но их искупил Христос Иисус – и так Он наделил их праведностью. Такой дар получили они по Его благодати. Бог по Его вере принял Его кровавую смерть как жертву во очищение людских грехов. Так Бог явил Свою праведность, прощая совершенные прежде грехи» (Рим. 3:23–25; перевод Десницкого).
Прощать можно только тем, у кого есть вина. Даже странно об этом говорить.
Марк Подвижник: «Когда услышишь слова Писания: “Воздаст комуждо по деянием его” (Мф. 16:27), то оно не разумеет дела, которые сами по себе достойны геенны или Царствия, но дела собственного неверия или веры, за которые Христос воздаст каждому не как соразмеряющий вещи, но как Бог Создатель и Искупитель наш. Мы, которые удостоились бани пакибытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты» (О тех, которые думают оправдаться делами. 21–2233).
Поэтому и притча в 25-й главе Евангелия от Матфея, и любые другие места Писания про спасительные дела относятся не к тем, кто был милосерд и жил по совести или по своей религии, а только к истинно верующим, которые без Христа «не могут творить ничесоже», а дела лишь характеризуют спасительный характер их веры в противовес пустым словам о вере: «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи… И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Мф. 7:22–23).
И проверить это все очень легко. Мы берем классическое доказательство от противного: если вина не всеобщая или ее нет вообще, если есть какие-то особые группы людей, если есть какие-то особые частные механизмы (спасение по совести и делам), если гнев Божий и проклятие на смерть на самом деле лишь преувеличения (как утверждает А. И. Осипов, следуя Исааку Сирину), если все дело в исцелении, обожении и проч., то утверждение апостола Павла о примирении является также относительным и вообще непонятным. И все дальнейшие возвещения истины о жертве, искуплении, прощении, возрождении, смерти для греха и прочем будут непонятными, что и характеризует православие. То есть, если на первом шаге мы не принимаем буквально того, что нам возвещает Писание, придумываем какие-то дополнительные конструкции, сглаживаем, как нам кажется, острые углы, дорисовываем Богу улыбку там, где ее нет, то и получаем в итоге нарисованного Бога, чем славится православие – сплошные рисунки Бога, кто во что горазд.
Спасение по делам, в том числе по делам исполнения закона Моисея, а также возможность для всех людей не грешить, хотя и с большим трудом, чем если бы нам помогала благодать, проповедовал Пелагий. Приведу одну лишь характерную выдержку из сочинения Мария Меркатора, отражающее согласное церковное отвержение данных идей:
«Пелагий не побоялся подвергнуть нас, пребывающих в подчинении Евангелию, похожему или одинаковому проклятию с теми, кто были подчинены закону, уравняв евангельскую благодать с законом обрезания и со всяким иудейством. Потому также и его ученик Целестий дерзнул открыто провозгласить, что “закон приводит в Царство Небесное так же, как и Евангелие”. Ведь понятно, что, согласно Пелагию, если мы все еще находимся в тех же или подобных узах закона, тогда и в евангельское время, если мы как люди в чем-то ошибемся или не исполним одну из заповедей Евангелия, мы будем прокляты. Если это так, – чего да не случится, – однако если это сказано в том смысле, в каком угодно Пелагию, тогда Евангелие уравнивается с ветхим законом. И где тогда будет изречение апостола Павла: “Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием за нас?” ( Гал. 3:13). Поскольку написано: “Проклят всякий человек, который не пребывает во всем том, о чем написано в книге закона, чтобы он это делал” (Втор. 27:26)» (Предостережение против Целестия; перевод Д. В. Смирнова34).
Итак, Послание к Римлянам возвещает нам универсальность, повсеместность, всеобъемлющий охват гнева. Нет ни одного человека, на которого бы он не падал, не распространялся, не угрожал занесенным мечом.
Рим. 3:10–12: «Как написано: “Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога; все сбились с пути, разом пришли в негодность; нет творящего доброе, нет ни одного”» (перевод еп. Кассиана).
Православное богословие
Самым показательным, собирательным взглядом на этот вопрос мы можем считать небольшую книгу Александра Каломироса – современного греческого богослова и проповедника, автора книг и статей по богословию и апологетике, ревностного защитника православия. В книге «Река огненная»35 он пишет:
«Это диавол заставил людей думать, что Бог не любит нас, но любит только Самого Себя; что Он готов мириться с нами только в том случае, если мы ведем себя так, как Он того желает, и, напротив, если мы не ведем себя так, как Он нам велит, Он нас ненавидит; и что Он до такой степени оскорблен тем, что мы не подчиняемся Ему, что мы должны платить за это вечными муками, которые для этой цели и были созданы Им. Кто же сможет любить мучителя? Даже те, кто пытаются спастись от гнева Божия, вряд ли могут действительно любить Его. Их мнимая любовь вынуждена: они надеются избежать мести и достичь вечного блаженства только благодаря тому, что старались умилостивить этого грозного и чрезвычайно опасного Создателя.
Удалось ли вам распознать диавольскую клевету на нашего всех любящего, ко всем равно милостивого, абсолютно благого Бога? Неслучайно, что диавол в переводе с греческого означает “клеветник”.
Но при помощи чего диавол смог так оклеветать Бога? Какое средство он использовал, чтобы убедить человечество, развратить человеческую мысль?
Он использовал “богословие”. Сначала он внес в богословие незначительное отклонение, которое, будучи принятым богословами, становилось, благодаря его усилиям, все более серьезным, и, наконец, дошло до такой степени, что христианство стало уже невозможно узнать. Речь идет о том, что мы называем «западное богословие».
Тезис 1
Из той же книги Каломироса:
«Приходилось ли вам когда-нибудь заострять внимание на том, какова основная черта западного богословия? Его основная черта – признание того, что Бог – истинная причина всякого зла».
Контраргумент 1
Обвинение в том, что «основная черта западного богословия – признание Бога истинной причиной всякого зла» подобно утверждению, что основная черта океана – его способность топить корабли. Мы не будем касаться вопроса, кто конкретно, какая конфессия или какие богословы, должны подпадать под этот собирательный образ. Я отвечу, принимая всю условность термина «западное богословие».
Итак, в этой чудовищной редукции двухтысячелетней церковной традиции, традиции, которая началась с апостолов, а не с Августина и тем более не с Фомы или Ансельма, скрывается не просто неточность, но глубокое непонимание. Западная богословская мысль, от Климента Римского до современности, никогда не утверждала Бога «причиной зла» в том смысле, который подразумевают критики.
Возьмем, например, Уильяма Перкинса, выдающегося английского богослова XVI века. В трактате «Порядок предопределения»36 он детально разрабатывает вопрос соотношения Божественного провидения и человеческого греха. Его размышления – не безумное приписывание Богу авторства зла, но тщательное богословское исследование тайны, перед которой трепещет всякий мыслящий христианин: как всемогущий и всеблагой Бог соотносится с реальностью зла в мире?
На основании свидетельств древней Церкви и Писания Перкинс проводит тщательное различение между разными аспектами Божественного участия в мировых процессах. Он выделяет три способа Божественного действия:
Прямое волеизъявление, когда Бог «желает чего-то, позволяет этому произойти и радуется результату». Так Бог относится только к благим делам.
Поддержание бытия творения, включая способность действовать: «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). При этом Бог поддерживает саму способность действовать, но не направление этой способности к злу.
Использование даже человеческого зла для достижения благих целей – подобно тому, как искусный врач может использовать даже яд для исцеления.
Ключевой момент учения Перкинса – различение между существованием действия и его моральным качеством. Бог поддерживает способность действовать, но искажение этой способности происходит от самого человека. Подобно хромающему человеку: способность движения дается Богом, но хромота происходит от травмы.
Образ хромоты поразительно точно иллюстрирует мысль Перкинса. Представьте человека с травмированной ногой. Его хромота содержит два аспекта: саму способность двигаться (положительное качество) и искажение этого движения (отрицательное качество). Способность двигаться исходит от Бога как Творца и Промыслителя. Искажение движения происходит от травмы – от несовершенства творения.
Так и в случае греха: способность действовать исходит от Бога, но искажение этой способности – дело свободной воли творения. Именно эту мысль стремится выразить Перкинс своим богословским языком.
Он никогда не утверждает, что Бог «вкладывает» зло в человека или является первопричиной греха в том смысле, что Он – источник нравственного зла. Напротив, Перкинс тщательно различает между Божественным попущением греха в рамках Его провидения и причинением греха в нравственном смысле.
Обвинение, выдвинутое против «западного богословия», представляет собой не просто упрощение, но откровенную карикатуру. Оно игнорирует тщательные различения, проводимые богословами вроде Перкинса, между различными аспектами Божественного участия в мире.
Перкинс прямо пишет: «Мы вовсе не учим, что Бог напрямую создает грех или делает его частью Своего замысла как желанную цель». Подобные утверждения трудно совместить с обвинением в том, что он считает Бога «истинной причиной всякого зла».
Основная проблема критиков в том, что они не различают понятия «причина» в разных смыслах:
причина как первоисточник бытия;
причина как моральный автор;
причина как допускающая инстанция;
причина как использующая следствия.
Перкинс говорит о Боге как о причине в первом, третьем и четвертом смыслах, но категорически отрицает второй смысл. Критики же приписывают ему утверждение второго смысла, игнорируя все его оговорки и уточнения.
Библия полна парадоксов Божественного промысла. В истории Иосифа его братья замышляют зло, но Бог использует это для блага: «Вы замышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро» (Быт. 50:20). В истории Иова сатана причиняет страдания, но действует только в рамках Божьего допущения.
Апостол Павел говорит о Боге, «делающем всё по решению Его воли» (Еф. 1:11), не исключая даже злых деяний из сферы Божественного провидения. Пророк Исаия возвещает слова Господа: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7).
Богословие Перкинса, которое просто продолжает доминирующую церковную традицию, стремится сохранить всю полноту библейского свидетельства, не жертвуя ни всевластием Бога, ни Его святостью, ни человеческой ответственностью. Его противники же, в стремлении «защитить» Бога от вовлеченности в зло мира, рискуют создать образ Бога, который не соответствует библейскому откровению – Бога, чья власть ограничена автономной человеческой волей.
Сведение сложнейшего богословского вопроса к географическому противопоставлению свидетельствует о желании не понять оппонента, но дискредитировать его позицию без содержательного анализа.
Центральное место в размышлениях Перкинса занимает понимание греха не как «нечто», не как положительной реальности, но как искажения, отсутствия должного порядка: «Грех – это не нечто, не вещь и не действие в обычном смысле. Это скорее отсутствие должного, подобно тому, как темнота – это не какая-то субстанция, а отсутствие света».
В этом Перкинс следует классической традиции, идущей от апостолов и разделяемой многими восточными отцами. Грех – не сущность, сотворенная Богом, но искажение благой сущности. Как слепота не является особым качеством глаза, но отсутствием зрения, так и грех не является особым творением Бога, но извращением Его благого творения.
Учитывая это понимание, обвинение «запада» в том, что он считает Бога «причиной зла», теряет всякий смысл. Как можно быть причиной отсутствия или искажения? Бог творит бытие, а грех – его искажение, совершаемое свободной, но падшей волей творения.
Итак, утверждение о том, что «основная черта западного богословия – признание Бога истинной причиной всякого зла», представляет собой не просто неточность, но глубокое искажение.
Богословие Уильяма Перкинса, как и всей реформатской традиции, признает абсолютный суверенитет Бога над всеми событиями истории, включая греховные деяния людей через попущение, оставление «ходить своими путями». Но оно категорически отрицает, что Бог является моральным автором греха или вкладывает зло в человеческие сердца.
Различение между бытийной поддержкой и моральной ответственностью, между допущением и одобрением, между использованием зла для благих целей и его причинением – вот те тонкие богословские инструменты, которыми оперирует Перкинс. Игнорирование этих различений и сведение сложной богословской системы к карикатурному утверждению свидетельствует не о глубине понимания, но о поверхностности критики.
Истина в том, что Бог действительно является верховным Правителем всего творения, и ничто не происходит вне сферы Его провидения. Но Он – не автор греха в нравственном смысле. Он допускает грех,
управляет им, ограничивает его и, в конечном счете, использует даже злые дела людей для достижения Своих благих целей. Как писал сам Августин, которого столь часто цитирует Перкинс: «Бог рассудил, что лучше делать из зла добро, чем вообще не допустить никакого зла» (Энхиридион. 8. 27; перевод Д. В. Смирнова37).
Такова подлинная позиция «западного богословия», очищенная от карикатурных искажений и представленная в своей библейской целостности и богословской глубине.