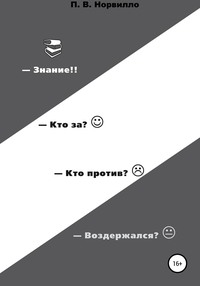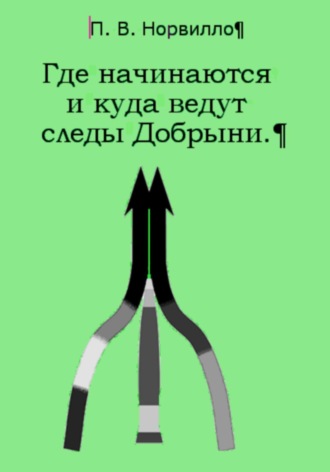
Полная версия
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
Добавим к этому, что приведённая в летописи аллегория далеко не ограничивается пожеланием правителю заботиться о спокойствии и достатке подданных. Уподобление пастырю, очевидно, ставит монарха и, шире говоря, публичную власть НАД обществом и довольно прозрачно признаёт за ними право – в случае неразумного поведения пасомых и потравы ими “народного интереса” – прибегать к средствам принуждения, будь то кнут или что-то ещё.
Иными словами, если исходить из того, что общественное сознание всегда следует за политикой и экономикой, то остаётся признать, что не только государственно-правовая идеология, но и древлянское общество в целом задолго до Х века вступили в этап, обозначенный нами как “II. Развитие имущественного неравенства и трансформация раннедемократических государств в сословные диктатуры” (см. прил. 2). Потому что мысль о том, что среди функций государства может быть сбивание “народа” в плотное “стадо”, не могла обрести популярность раньше, чем имущественное расслоение дошло до стадии полного противоречия интересов различных общественных групп. После чего для введения междуусобицы в совместимые с жизнью страны рамки и поддержания хотя бы внешнего единства понадобились люди, способные служить верховной третейской, а при необходимости также и карательной силой в деле замирения гражданских конфликтов. И только по прошествии ещё какого-то времени идейно-теоретическое обоснование их практической работы могло стать привычным и “родным” для широких масс населения.
На сходные размышления наводит и сам факт особого положения родины Нискиничей на фоне варяжской узурпации. В самом деле, почему в других славянских землях находникам удаётся найти достаточно коллаборационистов, чтобы свергнуть местные династии, а в Древлянии – нет? Апелляция к одним лишь высоким моральным качествам древлян в данном контексте выглядит явно недостаточной, поскольку всякая массовая мораль, будь то высокая или низкая, чтобы начать служить средством объяснения, прежде сама должна быть объяснена. Попытка перевести вопрос в нравственную плоскость даёт нам не решение, а всего лишь другую его формулировку. Например, такую: почему у тех же кривичей или полян боярство обнаружило в себе расширенную готовность к предательству, а у древлян – нет? Но содержательно проблема остаётся.
В свете же вышесказанного особая обороноспособность Древлянии получает простое и логичное объяснение. А именно: взявшись (под натиском кочевников) одними из первых среди восточных славян за государственное строительство, древляне и в IX веке продолжали опережать своих соседей в социально-политическом развитии. Потому что к счастью или к несчастью, но задолго до встречи с войском Рюрикова родича Древлянской земле уже довелось пережить противостояние двух политических лагерей, один из которых замахнулся на роль покорителя собственного народа, а другой сумел отразить этот выпад.
После чего победившие в гражданском конфликте (по форме выглядевшем как борьба за трон) взялись за организационное и идеологическое закреплении добытого оружием успеха. В качестве одной из мер монарх был провозглашён главным хранителем народного интереса от внешних и внутренних посягателей, а народное собрание предоставило князю потребные для этого и сообразные с эпохой права и полномочия. Затем, дабы лишить проигравших поводов и социальной базы для новых выступлений, была воплощена в жизнь часть их наиболее страстных пожеланий. В том смысле, что боярам, сохранившим верность законной власти, помимо разовых поощрений достался пересмотр общих правил налогообложения, суливший заметное повышение их ежегодных “кормов” (к чему в первую очередь стремились мятежники).
Вероятнее всего, это было сделано через введение или расширение в боярских окладах не-фиксированных поступлений. На том основании, что сразу после гражданской войны требовать от поредевшего и оскудевшего крестьянства даже довоенного объёма налоговых взносов несправедливо и просто опасно. Но несправедливостью будет и то, если отстоявшим страну от внутренних врагов и честно заслужившим награду патриотам в общем итоге достанется ещё меньше, чем до победы. А избежать обеих этих несправедливостей позволяет, например, признание за владельцем некоторой области права – наряду с определёнными объёмами мёда, дичи, рыбы и проч., доставляемыми ему жителями – получать также долю с платежей, сопровождающих торговую активность местного населения и заезжих купцов. На первых порах это будет не очень много, но зато в будущем, когда затянутся раны войны у страны в целом, общий подъём сразу отразится и на достатке княжих помощников. А главное, им больше не придётся просить как милости прибавки к жалованью – их доходы будут двигаться строго вслед за совокупным благосостоянием опекаемого ими региона.
Сводилось ли экономическое поощрение боярства к однажды установленному проценту от прироста производства в их вотчинах или же была разработана какая-то более тонкая и гибкая схема, в данном контексте не столь важно. Для целей нашего исследования достаточно отметить несомненный практический эффект от принятых мер – сохранение в Коростене вплоть до Х века славянской княжеской династии. Само по себе доказывающее, что экономическая политика Нискиничей оказалась приемлемой для податных сословий и устраивающей большинство землевладельцев. Так что тот шаг по пути феодализации, который варяги в IX веке помогли сделать в Новгородской, Полоцкой, Смоленской и других славянских землях, для древлян был давно поседевшей стариной. И резко увеличить долю их вотчинников в эксплуатации страны без потери в ней политического равновесия было уже невозможно. То есть для своих амбаров от вокняжения варяга древлянские бояре могли ждать в лучшем случае их наполнения на прежнем уровне, да и то вряд ли. Уж слишком хорошо были известны на Руси аппетиты вышедших на государственный уровень балтийских пиратов. В кадровой же политике сдача чужеземцу-завоевателю, очевидно, сулила местной аристократии утрату большой части или вообще всех высших придворных должностей и резкое сокращение влияния на происходящее в том числе с их личными владениями. Словом, одни сплошные убытки.
Вот эти-то пусть даже с примесью корыстолюбия мотивы и порождали у древлянских бояр больше патриотизма, чем у их коллег в Смоленске или Киеве. И в конечном счёте возможность опереться именно на народ, всеми сословиями сплотившийся вокруг родной династии, позволила древлянским князьям сохранить трон, а главное, реальную власть, выговорив себе минимально возможную, с учётом конкретной обстановки, зависимость от варяжского Киева*.
Общий же вывод получается такой, что в то время, пока Ольга ещё только начинала задумываться о необходимости выработки разностороннеприемлемых норм и квот раздела национального дохода в феодализирующемся обществе, Мал уже знал по меньшей мере один действенный способ решения этой задачи. Плюс к тому древлянский князь владел богатым арсеналом других приёмов и методов, подобранных и настроенных его предшественниками специально для обеспечения главе государства максимальной свободы рук в деле организации и контроля жизнедеятельности страны. Причём будущий сват Ольги вовсе не считал эти знания и умения случайно-местечковым артефактом, пригодным лишь для его родной земли. Совсем наоборот, притязания Мала на наследство побеждённого им Игоря безусловно доказывают, что отец Добрыни был готов распространить древлянский порядок правления на всю Киевскую федерацию.
А ещё мы знаем, что когда в 970-х годах Ярополк Святославич под влиянием Свенельда принялся возрождать режим военной диктатуры в духе Рюрика-Игоря, то другой сын Святослава, Олег, тогда князь Древлянский, во-первых, выступил против таких попыток, а во-вторых, обосновывал свою позицию в том числе ссылками на опыт и заветы Ольги. Лишний раз подтверждая этим, что Ольга была наследницей мужа только в юридическом смысле, а политический климат при ней меняется совершенно. И княжеская администрация, доселе возглавлявшая и вдохновлявшая беспардонное псевдоналоговое ограбление трудящихся славян, начинает осваивать функции регулятора, до известной степени сдерживающего произвол землевладельцев и отчасти ограждающего интересы земледельцев. То есть принимает по сути древлянский курс – только без самого именования “древлянский” – на превращение раннефеодального государства в стоящего на страже внешнеоборонного “народного интереса” гражданского арбитра; в обруч, силой металла (железа, свинца, серебра) стягивающий воедино расколовшееся на противостоящие классы общество.
С другой стороны, присутствие вместе с сыном в отправившемся на древлян войске, переговоры с византийскими императором и патриархом, инициатива крещения, поведение накануне смерти, посмертные отзывы о ней киевских бояр, в общем, все дошедшие до нас сведения о матери Святослава, помимо высокой политической грамотности, обнаруживают также сильный характер и весьма серьёзные амбиции. А такие люди, как показывает опыт, по самой своей природе не могут быть пассивными проводниками чуждых им идей, поскольку принимают лишь те советы, которые в целом согласуются с их собственными взглядами. Так что независимо от того, сформулировала ли Ольга основы своего мировоззрения самостоятельно или усвоила через чьи-то наставления*, после этого этапа превратить её в свою безвольную марионетку не было дано никому, включая Мала Нискинича (который тоже далеко не всё придумывал сам; большую часть применявшегося древлянскими князьями политического инструментария они получали в готовом виде от старших родичей).
Добавим к этому, что если не детали, то генеральную линию политики, подходящей для сына, Ольга определила никак не позднее момента, когда надо было добиваться славянского имени для новорожденного. И отсюда окончательно получаем, что стратегическими единомышленниками родители Малы и Святослава стали не в процессе осады Коростеня, а по меньшей мере лет за 5-6 до этого. Что, собственно, и требовалось доказать.
2. Предпосылки 2-4 или были ли у Ольги и Мала возможности узнать себя друг в друге и договориться о сотрудничестве.
В то время как экономическим залогом ожесточённости разгоревшегося на Руси конфликта служила норма эксплуатации, вознесённая варягами за социально-безопасный уровень, накал политической борьбы задавался тем, что имелся только один великокняжеский стол. И сколь ни мал был Святослав, поместиться рядом с ним во главе Руси другой князь, начиная с Мала, никак не мог, или – или. Поэтому на первых порах почти что политические близнецы Ольга и Мал, равно претендовавшие на контроль над славянской федерацией, становятся противниками. И происходи это в иных условиях, очень даже могло статься, что никакая близость воззрений и программ не помешали бы будущим своякам схватиться за власть “по всем правилам”, то есть без всяких правил.
Но в том-то и дело, что, помимо друг друга, у Ольги и Мала имелся ещё общий конкурент – сомкнувшиеся на платформе форсированной абсолютизации Руси высшие слои варяжского войска* и полянского боярства. Да, восстановив против себя уже не только трудящиеся сословия, но и немалую часть “вольных слуг” короны, клика ультрароялистов переживала глубокий кризис. Но это не означало, будто варяги, продолжающие мнить себя хозяевами захваченной страны, и примкнувшие к ним славяне добром сдадут свои позиции. Напротив, как раз осознание нарастающей зыбкости своего положения делало иноязычных и доморощенных волков особенно опасными, поскольку в стремлении вернуть былую власть подобная публика могла решиться на самые отчаянные эксцессы. (Собственно говоря, такими попытками и были переворот Свенельда-Ярополка, а затем устроенный вышгородскими боярами мятеж 1015 года в пользу сына Ярополка.) Ну а перед лицом общего грозного противника случалось забывать свои разногласия и начинать сотрудничать самым разным силам – от афинян и спартанцев в 479 году до н. э., русских и половцев в 1223 году н. э. до Бисмарка и Версаля в 1871 году. И чтобы убедиться, что в 945-946 годах имел место один из таких случаев братания, казалось бы, непримиримых соперников, остаётся лишь ещё раз проследить, какие развилки ждали Киевскую державу на пути от казни Игоря до водворения Мала в Любечскую крепость, но уже с точки зрения политических взглядов и чаяний главных действующих лиц этой истории.
Итак, Х век, воспоминания и размышления (принципиальная схема):
Мал: С поражением Игоря война практически закончена. Конечно, варяги в Киеве и не только в нём ещё остались, но разрозненные и лишившиеся своего лидера они уже не так опасны. Надо только не дать им опомниться и как можно быстрее отобрать последнюю карту – наследника взятого обманом престола. Убить? Настоятельной необходимости в этом, пожалуй, нет, нейтрализовать малолетнего можно массой других способов. Но для спокойствия всех земель будет лучше, если потомок узурпатора разместиться в древлянских пределах под надёжным контролем и вне политической борьбы, а там посмотрим, как с ним быть. Что же до Киева, то туда можно будет направить… (Добрыня несомненно был старшим сыном Мала, но в 945 году даже он не был готов к самостоятельному правлению. Так что, собираясь взять под свою власть Киевскую федерацию, древлянский князь на первых порах мог рассчитывать только на наместников. Однако стараниями киевских летописцев ни одного имени из нетитулованного окружения Мала до нас не дошло.)
Вариант, при котором соседи откажутся выдавать Святослава, в Коростене, возможно, даже не пытались глубоко разбирать. Ведь в последнее время Игорева клика стала вести себя по-волчьи по отношению не только к древлянам, но и широким слоям самих полян. И в сочетании с памятью о многовековом опыте сотрудничества славянских земель в борьбе с всякого рода иноземной угрозой это позволяло рассчитывать, что поляне с радостью освободятся от сына Игоря как последнего неубранного обломка разбитого чужеродного режима и последнего напоминания об узурпированном периоде их истории.
Киевляне: Вот только в 945 году поляне и киевляне – это было уже далеко не одно и то же. Будучи непопулярным руководителем, держащимся у власти почти исключительно за счёт военной силы, Игорь, помимо варягов, мог доверять лишь тем аборигенам, которые усердным служением ему начисто отрезали себе обратный путь в лагерь славянского сопротивления. Те же, кто не проявлял достаточного рвения в деле подавления соплеменников и навлекал на себя хотя бы только подозрение в сочувствии патриотам, если и не уничтожались, то немедленно высылались в провинцию, а их место при дворе занимали “честные” коллаборационисты. Так что хотя идейные “колабо” и составляли меньшую часть полянских “лучших людей” (как называли сами себя бояре и жрецы Перуна), но значительная часть именно этой части была сосредоточена в столице и доминировала при дворе. Соответственно, выслушивать прибывших в Киев древлянских послов и принимать решение по высказанному ими предложению предстояло тем, для кого согласиться на выдачу Святослава было равносильно уж точно политическому самоубийству.
Ведь даже при том, что предъявленное Игорю обвинение в нарушении княжеского долга вообще и договора с древлянами в частности на его полянских слуг не распространялось, древлянское правление по самой своей сути не нуждалось в свирепых выбивателях дани. Поэтому при переходе Киева под руку Мала верные помощники князя-волка несомненно лишились бы своих постов. Но ещё до кадровых решений новой власти многих из приспешников прежнего порядка сами поляне могли уличить в насилиях и беззаконии. И в обстановке междуцарствия, если бы такое случилось, для подобных деятелей резко возрастала вероятность стать объектами прямого народного правосудия.
Что, и произошло бы, если бы кучке полянских ренегатов, желающих спасти свою шкуру и место при власти, не удалось подкрепить обуявшие их страхи реальной и преимущественно славянской военной силой, собранной в сжатые сроки в Киеве. Как им это удалось? Сыграв на старой, как родовой строй, но до сих пор не замолкшей струне национализма, в данном случае – полянского земельного национализма. Бестрепетно валя с больной головы на здоровую, Мала обвинили в древлянском шовинизме, стремлении свергнуть законную (?!) династию и узурпировать (!!) Киевский стол, залить кровью Полянскую землю, и бог знает, какой ещё грязью не забрасывали древлян не на шутку встревожившиеся полянские варяги и варяжские поляне. И не счесть примеров того, как в самые разные эпохи жупел Н-ской угрозы поднимал якобы на защиту отечества, а на самом деле на защиту своекорыстных интересов правящей клики действительно народные массы.
Ну а заполучив в свои руки войско, готовое сражаться “за Родину” и против “древлянской угрозы”, киевляне, разумеется, приободрились. И выяснилось, что “коварные замыслы Мала” – это есть просто-напросто выболтанные от возбуждения собственные мечты приблудных и доморощенных волков свергнуть наконец традиционную древлянскую династию и через административную ассимиляцию Древлянской земли устранить грозного в своей стойкости соседа. И вот уже слышатся призывы “Отомстить!”, “Наказать!” и т. п.
Ольга: Святослав должен стать общерусским князем, но для этого он должен прежде всего стать князем, а не пленником. Причём после потери Игоревой дружины закрепить за сыном высший титул предстоит в условиях, когда надёжная защита Киева может быть обеспечена только солидарными действиями всех имеющихся варяжских и полянских вооружённых формирований. И даже если бы не имелось никаких других причин, одной лишь необходимости варяжской поддержки для выживания династии было бы более чем достаточно, чтобы побудить Ольгу по крайней мере на первых порах относиться к позиции варягов с большим вниманием и предупредительностью.
Но ещё важнее то, что, намереваясь проводить политику социального мира и подвести под трон Рюриковичей славянскую опору, Ольга никоим образом не собиралась добиваться этого ценой выбивания опоры варяжской. А посему изо дня в день она будет разыгрывать правительницу, для которой доброе согласие между всеми её подданными – это, в общем-то, точно такая же прихоть, какой было для её покойного мужа всемерное унижение славян. И именно поэтому добиваться воплощения данной прихоти она будет со всей решительностью и непреклонностью своего истинно варяжского характера.
В результате при Ольге действительно будет положен конец самовольным поборам и прочим бесчинствам, которые до этого воспринимались варяжскими служаками сверху донизу как практически официальная надбавка к их штатному жалованью. Но в остальном как при юном, так и уже возмужавшем Святославе варяги сохранят своё обеспеченное существование, а лично Свенельд – высокий пост и серьёзное влияние при дворе. Из чего следует, что все изменения государственной политики, предложенные и реализованные Ольгой после превращения её в полноправного члена правительства, получали путёвку в жизнь с ведома и при участии лидеров варяжской партии.
Поэтому в 945 году о сколько-нибудь существенной смене порядка правления, очевидно, даже речи не шло. Тем не менее после получения известия о смерти Игоря Ольга смогла добиться, как минимум, приостановки взимания самых раздражающих сборов и, весьма вероятно, ещё каких-то дополнительных мер, которые сами по себе не отменяли агрессивной сути режима, но уже позволяли обоснованно утверждать, что власть начала прислушиваться к своим подданным и готова в чём-то идти им навстречу. Это могли быть, например, отставки некоторых наиболее рьяных лихоимцев, смягчение наказаний или полное помилование для пострадавших за протесты против чиновных злоупотреблений, элементы либерализации в организационной сфере (вроде восстановления запрещённых ранее не самых важных элементов местного самоуправления) и так далее в том же духе.
В таких условиях умеренная оппозиция, как правило, начинает сильно колебаться, а радикальные элементы, оказавшись в меньшинстве, признают целесообразным не торопиться с активными действиями и прежде посмотреть, куда пойдут события дальше. Да, примирительные акции власти по отношению к своим противникам на поверку нередко оказываются лишь тактической уловкой, призванной выиграть время, чтобы затем, собравшись с силами, нанести очередной удар. Но в любом случае сам факт появления у государства – особенно монархического – нового главы всегда и везде порождает чисто человеческие надежды и ожидания, что грядущие перемены будут к лучшему, а не наоборот. В общем, внутри державы обновлённая киевская власть необходимую ей тактическую передышку так или иначе получала.
Вот только древляне на тот момент уже не являлись данниками Киева. Покончив с Игорем, они фактически и юридически сбросили варяжское иго и полностью восстановили свой суверенитет. После чего никакие самые милые заигрывания Киева со своими подданными, будучи для древлян абсолютно посторонним делом, не могли произвести на последних нужного впечатления. Скорее наоборот, как раз наблюдая ситуацию со стороны, в Коростене могли судить о ней гораздо объективнее соседей. Поэтому в древлянском руководстве вряд ли упускали из виду, что объявляемые именем Святослава либеральные шаги (сколько бы их ни было) в известной мере облагораживают лишь внешний облик режима, но ничего не меняют в основах организованного варягами государства. Так что если Ольге или Святославу в какой-то момент надоест роль дальновидного и помнящего о справедливости правителя, то все нынешние уступки и послабления с той же быстротой могут быть отыграны назад.
Причём с этой особенностью предлагаемых ею реформ Ольга при всём желании ничего не могла поделать. Потому что именно в блокировании фундаментальных преобразований и сохранении условий для немедленного возвращения к политике безудержного государственного хищничества состояла категорическая позиция Свенельда и иже с ним. И считаться с этой позицией приходилось всем противникам дальнейшей дестабилизации положения в стране, будь то варяжские либералы или полянские коллаборационисты. В связи с чем Ольга не могла также не понимать, что в 945 году в глазах древлян и лично Мала она, конечно, никакой не союзник и даже не кандидат в союзники, а лишь хитрая варяжская жена волка-Игоря, готовая прикинуться кем угодно и давать любые обещания, лишь бы сохранить за собой власть. И что, следовательно, по доброй воле обратно в подданные Киева древляне не пойдут.
Но и оставить восставших соседей в покое тоже не получалось. Не говоря уже о том, что древлянские взносы составляли достаточно весомую часть киевского бюджета, в общеполитическом контексте возвращение вчерашних данников к покорности становилось поистине делом принципа. Когда бы Игорь просто потерпел поражение, потерял большую часть дружины, но сам вернулся живым, это выглядело бы обычной военной неудачей, что случаются даже с крупными полководцами. И при таком повороте отсутствие немедленного нового вторжения и даже полный отказ от покушений на независимость древлян выглядели бы чисто рабочим решением, лежащим строго в русле полномочий великого князя. А вот смерть и тем более позорная казнь главы государства, согласно традициям эпохи, накладывала на его наследников непременную обязанность мести. Отсутствие же хотя бы попытки исполнить эту обязанность грозило новому киевскому правительству резким падением и внутреннего, и международного авторитета. Вплоть до того, что Византия, видя столь явное ослабление своих русских партнёров, могла прекратить выплату “дружеской” субсидии, к чему её принудил Игорь, но пока ещё не Святослав.
Коротко говоря, война с древлянами становилась неотъемлемой частью политического наследства Игоря, и вступить в полноценное распоряжение этим наследством Ольга могла, только вернув потерянное мужем, то есть добившись от Коростеня покорности и согласия платить хотя бы прежнюю дань. А сделать это одними дипломатическими средствами было крайне затруднительно.
В то же время сокровенным замыслам Ольги категорически противоречит и жестокий разгром Древлянской земли. Чтобы Святослав мог не только в теории, но и по существу претендовать на звание славянского князя, самый способ прекращения восстания должен если и не привлечь простых славян на сторону новой власти, то хотя бы не оттолкнуть их от неё. Причём добиваться этакого не очень горького для проигравших поражения предстоит под чутким надзором варяжских “ультра”, кои требуют мести и крови и не исключено, что уже готовят новый переворот и альтернативного князя на случай, если регентша проявит “мягкотелость” в деле подавления древлян. Воистину хождение по лезвию бритвы – школьное упражнение по сравнению с задачей Ольги в 945 году.
Пытаясь решить эту задачу, она параллельно с подготовкой военной экспедиции в “Дерева” принимается по мере сил готовить систему ограничителей для этого предприятия, а проще говоря, узду, призванную удержать армию и воевод в приемлемых рамках. Для чего всячески старается остудить накал антидревлянской истерии и перевести предъявляемые древлянам претензии из сферы эмоций на почву традиционного славянского права. Ибо законный князь, каким рисуется Святослав, даже с разбойниками должен расправляться не по своему произволу, а по национальному закону.