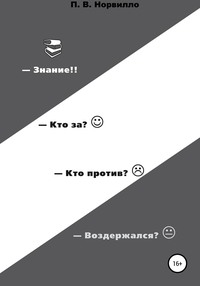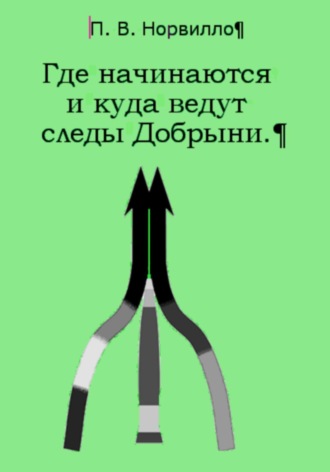
Полная версия
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
Помочь Ольге дать древлянскому инциденту правовую оценку в местном духе охотно берутся полянские бояре, ибо такой маневр матери Святослава продолжает укреплять их влияние при киевском дворе. И, возможно, не сразу замечают при этом, что разложение случившегося под Коростенем на конкретные составы преступления, во-первых, резко снижает злостность содеянного древлянами. Как ни крути, но даже самые ярые сторонники Игоря не берутся отрицать, что нарушать установленный договором порядок взимания дани начал именно он. А во-вторых, в ответ на требование Ольги определить главных виновников смерти её мужа взявшиеся за предварительное расследование бояре вынуждены признать, что это не древлянский народ в целом, а только жители столичной области, и что древлянский князь несёт за эту смерть не единоличную, а только солидарную ответственность.
Тем самым закладываются первые предпосылки для ограничения размаха карательных санкций и сохранения жизни Малу и его семье. Вот только хватит ли этих предпосылок, если удастся победить древлян, но их вождь попадёт в руки воинов Свенельда?.. А если победить не удастся? Нет, такой вариант вообще не заслуживает рассмотрения, поскольку второго поражения подряд династия Рюриковичей может и не пережить…
Мал: Война, которая казалась оконченной, продолжается. Это само по себе неожиданно, но вдвойне неожиданно то, что объявили её славяне, но именем варяжского князя! Отказ капитулировать и желание драться до последнего со стороны варягов были бы неудивительны. Но в том-то и дело, что древлянское посольство направлялось к славянам, а не варягам, и ставило вопрос не о капитуляции Ольги и Святослава, а об их выдаче. Победители не “приглашали” семью покойного Игоря в плен, а считали её уже находящейся в плену у своих естественных кровных союзников и просто предлагали “братьям-славянам” передать в Коростень один из общих славянских трофеев.
И вдруг не просто отказ (просто отказом было бы оставление Ольги и Святослава в Киеве и экстренная посадка на киевский трон славянского князя-не-древлянина), а война! И не чисто национально-освободительная, какой выглядела схватка с дружиной Игоря, а осложнённая “старой доброй” усобицей двух соседних славянских народов. Оказывается, варяжский вопрос, который, по идее, должен бы исключительно сплачивать славян, способен давать прямо обратный эффект, способен разъединять исторических соплеменников и бросать их в бой друг против друга к вящей радости хищных чужеземцев…
Так Малу уже на личном опыте приходится убедиться, что внутренние волки могут быть злее заморских, и что именно вопрос о власти (в данном случае о власти в Киеве), так легко превративший отечественную войну в практически гражданскую, превосходит по значимости любой национальный вопрос, будь то варяжский или какой-то ещё. Впрочем, у отца Добрыни ещё будет время без спешки проанализировать исходные идеи, порядок исполнения и последствия своих и чужих дипломатических и собственно боевых маневров и довести древлянскую политическую теорию до высот, к которым деятели последующих восьми столетий будут лишь приближаться и только в XIX веке смогут реально превзойти. Пока же в границы Древлянии стучится война, требующая не отвлечённых, а предельно конкретных и оперативных соображений и мер. И в древлянском руководстве берутся за обсуждение вариантов ответных действий.
Допустим, война. Тогда какая – наступательная или оборонительная? Наступательная исключается. Одно дело – воевать на своей земле, где каждый куст и каждый камень укроют, и совсем другое – вторгаться в чужие пределы. В этом случае инициатива выбора места и времени для боя и другие тактические и психологические преимущества защитников родины перешли бы к полянам, а общие недостатки позиции интервентов стали бы спутниками древлянской армии. А самое главное, если Киев, обороняемый лишь остатками варяжского войска, ещё можно было рассчитывать взять, то Киев, на защиту которого встали славяне, становился недосягаем.
Поскольку служба информации работала уже тогда, Мал довольно скоро узнал, что он оборотень, людоед, маньяк-убийца, и что к распространяемым в Полянской земле этим и аналогичным “сведениям” многие прислушиваются и готовятся воевать против древлян “честно и грозно”. А стало быть, первый же шаг древлянской армии за Ирпень лишь плеснёт новую порцию масла на непогасшие угли застарелой поляно-древлянской настороженности и побудит взяться за оружие всех, кто способен сражаться.
При таких настроениях даже вступление древлян в Киев, но по славянским костям и в качестве не освободителей, а покорителей, так сказать, варягов-бис, означало бы не конец войны, а лишь начало её нового этапа. На котором древлянской армии пришлось бы иметь дело с варяжскими отрядами и славянскими ополчениями из всех других контролировавшихся Киевом земель. Потому что народы этих земель в своё время признали над собой власть варягов, но отнюдь не древлян. Так что в отсутствие варяжских наместников и гарнизонов падение киевской власти было бы для уличей, радимичей, кривичей и других данников Киева хорошим поводом вспомнить о былой независимости. Но поскольку региональные администрации держат в руках варяги, то они точно постараются мобилизовать все имеющиеся резервы для “отпора захватчикам”. А древлянам будет трудно что-то противопоставить подобным призывам, поскольку кровавое подчинение соседей-полян разом лишит всякой убедительности рассуждения о Мале как правителе-пастухе, заботящемся о благе всех своих подданных. Отсюда хотя бы и удачная атака на Киев откроет перед древлянами ровно два пути: либо брать с боем все другие подчинявшиеся Игорю земли, где варяги – особенно с учётом уже происходящего смягчения своей диктатуры – будут пользоваться определённой поддержкой местных жителей. Либо никого не завоёвывать и ждать, пока эти земли не сорганизуются под рукой какого-нибудь нового лидера и сами не придут к Киеву свергать “самозванца” и восстанавливать “законную власть”. Сравнивать эти варианты можно только по степени их полной или заведомой проигрышности, и потому не приходится сомневаться, что даже если бы древляне располагали материальными ресурсами для силового водворения в Киеве, эти ресурсы всё равно никогда не были бы задействованы.
Что же касается войны оборонительной, то, вообще говоря, можно надеяться уложить в древлянскую землю ещё одну вражескую рать, а там, глядишь, и ещё одну. Однако без войны наступательной, без устранения самого источника интервенций оборона гарантирует лишь периодические новые кровопролития и постоянное отсутствие покоя в стране. А поскольку даже захват Киева проблемы всё равно не решит, то, заранее уступая инициативу противнику, следует также учитывать, что пассивная тактика рано или поздно, но почти наверняка приведёт к поражению. И этим не только обессмыслит смерти павших воинов, но и прибавит к ним жертвы резни среди гражданского населения, ибо озлобленный долгим сопротивлением неприятель вряд ли будет проявлять сдержанность и добросердечие. Так что любой вид войны не подходит.
За вычетом войны остаётся мир. Вот только поляне плюс варяги даже не предлагают уладить инцидент, выдав виновных и заплатив выкуп (что было бы вполне в духе времени), а откровенно бряцают оружием и явно нацеливаются раз и навсегда покончить с “древлянской военной угрозой”. В таких условиях просто выбросить белый флаг и сдаться “на всю волю” Киева значило бы даже без попытки сопротивления перейти к варианту проигранной оборонительной войны. Когда бы речь шла о голове одного Мала в обмен на спокойную жизнь древлянского народа, то над такой сделкой он ещё мог бы подумать. Но представить себе, будто можно своими руками отдать на растерзание вверенную его заботам страну, ни один Нискинич в принципе не мог. А раз любые разновидности выхода из противостояния через разгром одной из сторон отпадают, то для древлянского политика это означало, что надо искать способ именно примирения, компромисса, когда никто никого не ставит на колени и взаимоприемлемые нормы сосуществования достигаются путём взаимных же уступок и шагов навстречу пожеланиям друг друга. (Несколько десятилетий спустя именно такого мира со всеми соседями Руси будет добиваться Добрыня.)
Понятно, что минимальным условием, способным хотя бы отчасти успокоить киевских волков, является очередное превращение древлян в их данников, и что политически (не говоря уже об эмоциональной стороне) после притязаний на Игорево наследство возврат в варяжское подданство будет выглядеть очень серьёзным провалом. Но поскольку меньшей ценой избежать большой крови не получается, то, стало быть, тут и спорить не о чем. Тем более что сходный опыт уже имеется, поскольку в своё время древляне, начав с объявления независимости от Киева, затем ограничились пересмотром условий подданства.
И этот, как минимум, внешний параллелизм событий 913-914 и 945-946 годов побуждает ещё раз присмотреться к тому, что нам известно о времени Первого древлянского восстания. Потому что в свете вышесказанного встаёт закономерный вопрос: если заведомая неспособность патриархального государства обеспечить прочную круговую оборону своих границ была очевидна для всех (даже Византия предпочитала откупаться от большинства своих соседей, а не воевать со всеми сразу), то тогда на что же надеялись отцы и деды поколения Мала и Добрыни, когда после смерти Олега “затворишася от Игоря”? Что в Киеве махнут рукой на потерю таких данников? Или что они смогут разгромить войско, незадолго перед тем вынудившее сдаться Константинополь?
Достаточно поставить вопрос в таком виде, и подозрение древлянских мужей совета в столь вопиющей наивности отпадает само собой. А значит, выступая в 913 году против “руководящей роли” Киева, древляне понимали как невозможность обойтись в этом случае без войны, так и невозможность решительной победы в ней. Так что если бы из Коростеня на тот момент не виделось никакой более оптимистичной перспективы, кроме как выступление в роли мальчиков для битья, то и открытый протест вряд ли бы состоялся.
Задним числом мы эту перспективу знаем – по результатам похода Игоря древляне смогли обменять прибавку к дани на отмену обязанности поставлять новому князю воинов. Но заранее рассчитывать на нечто подобное можно было только при наличии полной уверенности, с одной стороны, в собственной способности выдержать первый натиск варягов, а с другой – что долгая война не в интересах Игоря и развёрнутым боевым действиям он предпочтёт мирное соглашение, пусть даже более компромиссное, чем это было при Олеге.
При этом повышение боеспособности древлянской армии в Х веке сомнений не вызывает. За десятилетия ближайшего соседства и совместных походов древляне имели достаточно возможностей изучить вооружение и тактику варягов и многое у них перенять. На полное уравнивание шансов, разумеется, никто пока не рассчитывал, и ещё в 945 году Мал будет до последнего уклоняться от схватки. Но во всяком случае чем-то совершенно таинственным и непредсказуемым, как это было в прошлом веке, варяжская сила на Руси уже не является, и кое-какие приёмы противодействия “стене щитов” в Коростене уже подготовлены и продолжают готовиться.
Что же до беспокойства Игоря за свой тыл, то здесь, похоже, дело было не только в общем росте недовольства славян варяжско-волчьим стилем правления. В ряде западнославянских источников сохранились, насколько можно судить, фрагменты или пересказы моравских хроник, сообщавших, что после смерти Олега Вещего его сын был изгнан Игорем из Киева, осел в Моравии и впоследствии даже был провозглашен местным правителем. Причём в этой версии Игоря прямо называют племянником Олега, то есть Рюрик и Олег признаются братьями либо зятем и шурином, но больше похоже на первое. К этому стоит добавить, что даже если бы два пирата-узурпатора приходились друг другу не родными, а, скажем, двоюродными братьями, то для Х века это всё равно была бы одна семья, при наблюдении которой со стороны подобные различия в степени родства выглядят не столь существенными.
Так что в целом приведённая история выглядит очень даже реалистично. В самом деле, в эпоху, когда решительно все от смерда и купчины до боярина и князя заботились о наследниках, Олег едва ли составлял исключение и, будучи к тому же официальным многоженцем, вполне мог иметь сына (сыновей). А в таком случае складывается довольно любопытная коллизия: при том, что после смерти Олега Игорь остаётся старшим в роду, его отец, Рюрик, владел только Новгородом, но не Киевом, который присвоил себе именно Олег. Так что принадлежность Игорю Новгорода никто оспаривать не собирается, а вот у кого больше прав на Киев – у Рюриковича или Олеговича – совсем не так очевидно. И даже если бы последний смиренно пропустил первого на киевский трон, в любом случае первоочередным претендентом на роль следующего владельца Киева, согласно действующему патриархальному порядку престолонаследия, оставался бы скорее сын Олега, нежели Игоря.
Дополнительные краски в общую картину привносила сама фигура Олега – успешного военачальника, тридцать лет водившего варяжскую русь от победы к победе. В связи с чем если не все, то точно многие из его ближайших помощников были не прочь ещё на какое-то время сохранить своё положение, продолжив служить его сыну, а не Игорю. У которого имелась собственная свита, и было ясно, что при смене власти именно этому кружку наперсников достанутся самые почётные и доходные посты при дворе нового князя, естественно, за счёт освобождения этих постов от выдвиженцев покойного Олега.
В подобных обстоятельствах, как показывает опыт самых разных стран, даже наличие претендента с формально преимущественными правами на трон далеко не всегда останавливало его соперников, имевших за спиной реальную военную силу. А просвещённые европейские монархи, сталкиваясь с серьёзными династическими конкурентами, не всегда жаловали таких родичей изгнанием или тюрьмой, но могли также посчитать физическое устранение самым верным способом оградить свою власть от нежелательных посягательств. Так что если сын Олега действительно был изгнан сыном Рюрика, а не бежал сам, спасаясь от убийц или плахи после провала устроенного им заговора или как раз успешного заговора своего не самого родного брата, то такое решение можно считать проявлением некоего гуманизма со стороны Игоря.
Тем же, кто наблюдал происходящее со стороны, всё это давало основания полагать, что при любом решении вопроса о принадлежности русской короны в державе появится заметное число недовольных, включая весьма высокопоставленных. И оставалось только узнать, останется их недовольство чисто эмоциональным или уступивший претендент со товарищи продолжат попытки отыграться (некоторым военизированным династическим тяжбам случалось затягиваться на годы).
Да, в этот раз до полномасштабной варяжской усобицы вокруг Олегова наследства дело, похоже, не дошло, и Игорь сумел довольно быстро подмять под себя всех сомневающихся. Во всяком случае, летопись сообщает, что уже в следующем году – по нашему календарю, напомню, это может соответствовать осени того же года – истинный преемник Рюрика вторгся к восставшим соседям. Но поскольку в Коростене прекрасно знали, какое место занимает их страна в политике Киева, то такая поспешность нового князя вряд ли была воспринята древлянским руководством как сюрприз или трагедия.
Государственные деятели, будучи живыми людьми, в душе могут питать надежды на лучшее, но по роду занятий просто обязаны рассматривать все возможные варианты развития событий, включая самые неблагоприятные. Так что когда враг – собственно, как и подобает врагу – не стал дарить много дополнительного времени на подготовку, а перешёл к открытой войне в максимально сжатые для себя сроки, то для древлян это просто стало сигналом тоже пускать в ход оперативно-тактическую часть своего плана.
Каковой план, безусловно, опирался на реалистичные оценки соотношения сил, исключавшие всякую мысль о легковесном отношении к противнику. Поэтому древляне с самого начала нацеливаются не на решительный разгром, а на изматывание интервентов через осадные бои под стенами надёжных крепостей, мелкие полупартизанские стычки на коммуникациях и иные формы боевых действий, исключающие перспективу крупных потерь со своей стороны*. Что автоматически ограничивало также ущерб, наносимый варягам, но главная идея уклоняющейся “скифской” тактики – во всех её разновидностях – ровно в том и состоит, чтобы уничтожать не столько силы врага, сколько его расчёты на быстрое завершение войны через одно-два крупных сражения.
В условиях Х века убедить всё вражеское войско от главарей до последнего обозника в том, что древлянская кампания – если не остановить её по “доброму согласию” – будет трудной, затяжной и малоприбыльной, имело смысл ещё и потому, что варяжское правление для своих сохраняло элементы военной демократии. Так что когда провал идеи блицкрига стал очевиден для всех, общий пессимизм соратников тоже вошёл в круг факторов, которые приходилось учитывать Игорю, взвешивая плюсы и минусы имеющихся вариантов.
При этом по внешности доступные интервентам способы действий могли допускать известное разнообразие, но главная развилка сводилась всего к двум путям. Первый состоял в заключении с восставшей страной официального мирного договора, пусть даже без её полноценного поражения и потому с некоторыми отступлениями от тех условий капитуляции, которые в 883 году смог навязать древлянам Олег. Во всех остальных случаях требовалось застрять в лесном краю на неопределённое время, пуская на самотёк дела в Киеве и других землях, где тоже ждали княжеского слова пусть не столь критичные, но достаточно важные дела. И всё это на фоне неизбежных размышлений в том смысле, что проволочки с решением первой же крупной проблемы уж точно не добавят очков новому князю, но зато дадут дополнительные козыри недоброжелателям режима, будь то бежавшим или затаившимся в стране. Тогда как скорое возвращение домой без больших потерь и с богатой – хотя бы в материальном плане – добычей если и не снимет разом всех сомнений вокруг киевского государства и лично его главы, то точно рассеет многие из них и побудит значительную часть колеблющихся окончательно стать на сторону новой власти. О том, каким был выбор Игоря, летопись говорит, но пытается скрыть, что в стратегическом плане новое соглашение о подданстве стало весомым достижением Коростеня и уступкой для Киева.
С другой стороны, по тем же соображениям личного и государственного престижа вернуться из первого самостоятельного похода вовсе без трофеев Игорь никак не мог себе позволить. И, услышав требование вчерашних данников о полной независимости, был бы, можно сказать, вынужден продолжать войну несмотря на любые неудобства, но зато с полной бесцеремонностью. А поскольку в Коростене это сознавали не хуже, чем в Киеве, то отсюда и возникает уже упоминавшееся предположение, согласно которому древлянское руководство, отказавшись после смерти Олега подчиняться Игорю, отнюдь не замахивалось на немедленный и безоговорочный выход из-под власти киевского государя. Вместо этого речь с самого начала шла лишь о том, чтобы воспользоваться моментом ради хоть какого-то продвижения в данном направлении.
По ходу общего обсуждения, скорее всего, звучали предварительные оценки возможного состава шагов к свободе, уточнялись допустимые пределы платы за те или иные пункты ожидаемого соглашения и т. д. Но никаких иллюзий относительно податливости варягов на будущих переговорах не возникало, и все подготовительные мероприятия велись с учётом того, что конкретный формат отношений с Киевом надо будет определять в рабочем порядке, исходя не столько из собственных пожеланий, сколько из фактической расстановки сил на момент перехода от военного этапа операции к дипломатическому.
Конечно, сам Мал был тогда младенцем, а может, и вовсе ещё не родился, и активного личного участия в происходившем явно не принимал. Но не менее очевидно, что, повзрослев, он не просто узнал в том числе об этом этапе родной истории, а получил от отца и других знатных современников подробные разъяснения, как отражались на происходившем те или иные явные и закулисные процессы и нюансы. При этом, как мы установили выше, во Втором древлянском восстании на собственно вооружённое покорение Киева опять-таки никто не нацеливался, и главная ставка делалась на раскол в полянской столице. Только на этот раз ожидался раскол не внутри варяжского лагеря, а между ним и славянами. Однако киевские волки вновь сумели быстро сплотиться, и перед древлянами предстал единый фронт варягов и полян. Так что даже если поначалу о происходившем с их страной тридцать лет назад в древлянском руководстве не вспоминали, то после ответа, который привезло из Киева отправленное туда первое посольство, продолжать отмахиваться от витающей в воздухе аналогии было бы уже невообразимым дилетантством.
И всё-таки, несмотря на нарастающее сближение, говорить о полном переходе ситуации в уже знакомое русло пока рано. Тогда внутрикиевский кризис был чисто династическим, а по своим политическим взглядам наследники Рюрика и Олега стоили друг друга (и когда один из соперников был устранён, все те, кто поддерживал не лично Олега, а прежде всего его методы правления, совершенно искренне дали присягу победителю). Теперь же, напротив, явных династических конкурентов у Святослава нет, но зато за возможность править от имени малолетнего князя борются группировки с заметно отличающимися политическими вкусами. И в свете последних мер нового правительства (а все важнейшие киевские новости становятся известны в Коростене максимум через несколько дней) славянское имя наследника Игоря перестаёт выглядеть лишь пропагандистским трюком и начинает наполняться реальным смыслом.
Понятно, что к оценке степени расхождений в киевской верхушке надо подходить осторожно и не впадать в излишний оптимизм. Просто потому, что все значимые прославянские маневры стали предприниматься обновлённым киевским правительством только после того, как древляне делом доказали, что от варягов можно не только защищаться, но и успешно их бить. Решительно укрепив этим боевой настрой всех славянских патриотов. В связи с чем сейчас сложно определить, какие из реформ продиктованы фундаментальными соображениями, а какие меры их авторы хотели бы видеть сиюминутной уловкой и свернуть сразу же, как только обстановка успокоится. Но сам факт отхода от исповедовавшегося Игорем жёсткого подавления славян неоспорим.
Помимо давшего о себе знать либерального течения среди варягов следует также отметить явный рост значения при киевском дворе славянской фракции. Опять-таки понятно, что полянских бояр даже с натяжкой трудно назвать выразителями национальных интересов. И тем не менее их позиция вносит дополнительный разнобой в некогда монолитный и строго однополярный режим великокняжеского самовластья.
Ну а коли так, коль скоро в Киеве имеет место не торжество кого-то над кем-то, а компромисс разных политических сил, то и в Коростене достоит думать о повторении 914 года не раньше, чем будут испробованы все средства предотвратить интервенцию или хотя бы оттянуть её. И первым делом стоит проверить киевскую коалицию на прочность. А опыт подготовки капитуляции с позиции силы и без катастрофического кровопролития со своей стороны в любом случае никуда не денется. По ходу противостояния с Игорем Мал ещё раз убедился в выдержке и дисциплинированности земляков и потому уверен, что если в Киеве решатся на очередное вторжение, то новые поколения древлян будут достойны свершений своих отцов и дедов.
Патриархальные нравы: Как известно, по родовому праву родич не может быть кровником. Так что если попавшего в плен члена враждебного племени не убивали и не съедали, а принимали в род, то тем самым с него разом снимались все претензии относительно посягательств на жизнь и здоровье бывших врагов, а ныне родичей. И наоборот, совершившего тяжкий проступок против своих сначала изгоняли из общины, и только после этого при новой встрече всякий бывший сородич мог или даже должен был убить отверженного.
С другой стороны, одной из древнейших, а может, и самой древней принятой людьми нормой межобщинных отношений в науке единодушно признаётся принцип равноценного возмещения за нанесённый ущерб (талион римского права, “око за око, зуб за зуб” Библии и т. п.)*. Причём если на ранних этапах бытования этой нормы достойной платой за кровь считалась только ответная кровь, то с развитием экономики в искупление за смерть начинают приниматься также наличные и услуги*. На фоне такой коррекции нравов человек, случайно или даже умышленно вызвавший гибель женатого члена другой общины, мог избавить себя от преследований со стороны сородичей погибшего, в частности, женившись (само собой, после подобающих очистительных и искупительных обрядов) на вдове. В этом случае семья получала работоспособную единицу взамен утраченной; касательно же женщины предполагается, что ей нужен мужчина как таковой, а тот или другой – это уже не столь важно. А раз есть более-менее равноценное возмещение, то конфликт исчерпан. И по завершении всех формальностей вольный или невольный убийца в общественном мнении и отношениях на полном серьёзе и без всяких скидок замещал покойного, становясь полноправным и полнообязанным мужем, отцом, зятем, свояком и т. д. для женщины, её детей и прочих родственников своей жертвы.