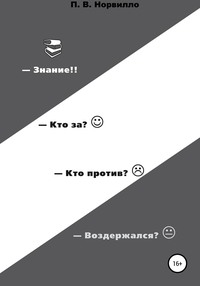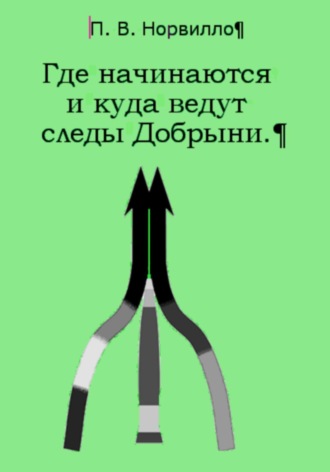
Полная версия
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
Отсюда, с учётом того, что у славян Х века многие обычаи родового строя бытовали не в виде отмирающих пережитков, но как рабочие и отчасти даже кодифицированные нормы права, становится окончательно ясно, что идея Мала предоставить Ольге мужа взамен утраченного ни в коей мере не была исканием амурных приключений. Перед нами не больше и не меньше как попытка найти почву для политического согласия между Древлянской землёй и Киевской федерацией и уладить конфликт без пролития новой крови. Так что выступавшие в роли сватов по сути своей были ещё и парламентёрами, прибывшими в лагерь противника для обсуждения возможных условий мира.
В самом деле, допустим на минуту, что в Киеве приняли предложение. Как легко видеть, в таком случае владения Игоря отходили бы древлянскому князю и его потомкам, но только уже не по праву военной добычи, а как часть общего имущества новой семьи (так вместе с рукой Марии Бургундской Габсбургам в своё время достанутся её наследные владения, включавшие, в частности, Нидерланды). После чего глава Древлянии становился бы главной фигурой на Руси уже не столько потому, что был разбит и казнён Игорь, а преимущественно в силу господствовавшей тогда традиции, согласно которой главой семьи признавался мужчина. Наконец, поскольку муж жены является также отцом её детей, то Святослав – после официальной процедуры усыновления – из “узурпаторского ублюдка” превращался бы в законного древлянского княжича**. За которым – для максимального смягчения грядущего поворота в судьбе – можно даже сохранить выделенную Игорем Новгородскую землю.
А самое главное, и эти условия не выдвигаются как последние, и в Киеве древлянские эмиссары демонстрируют не ультимативную твёрдость, а напротив, полную готовность к диалогу. Ибо подлинным пределом уступок для Коростеня является регулируемая капитуляция, по сравнению с которой любой мир без войны будет выигрышем. И сватовство было, строго говоря, лишь поводом для отправки в Киев ещё одной делегации, призванной показать, что древляне не считают соседей только лишь врагами, потерпевшими в лице своего государя сокрушительное поражение и потому обязанными безропотно следовать воле победителей. Но готовы предоставить бывшим подданным покойного Игоря возможность выдвигать свои условия мира и союза, на которых по доброму согласию объединятся два свободных и суверенных народа. (И если бы удалось завязать торг, то на нём древлянские лидеры собирались безусловно отстаивать лишь организационную автономность и общее достоинство родной земли и не мелочиться в ответ на экономические запросы контрагентов.)
Киевляне: В иной ситуации столь явный отход военных триумфаторов от своих первоначальных претензий и существенные шаги навстречу считающейся поверженной стороне могли бы рассчитывать если не на восторг, то хотя бы на внимательное изучение. Но только не у твердолобых киевских варягов. Ибо они, несмотря на разгром Игоря, продолжают считать древлян своими данниками, только взбунтовавшимися, и всё происходящее в Древлянской земле варяжская партия категорически не желает воспринимать как предмет внешней политики и норм международного права. Так что если год назад предложение уступок со стороны Византии было встречено в окружении Игоря с нескрываемым облегчением, то в 945 году намерение Коростеня разговаривать с киевскими властями как с равными по рангу в глазах Свенельда и иже с ним принимает вид нового наглого вызова распоясавшихся холопов. А продемонстрированное древлянами стремление к миру варяжские ястребы, как и вообще всякие ястребы, предпочли истолковать как признак неуверенности противника в своих силах, а значит, как дополнительный довод в пользу похода на соседей.
В свою очередь, полянских бояр перспектива уйти под власть древлянского князя – под каким бы соусом это ни подавалось – не то что не устраивала, но откровенно пугала. Поэтому они дружно поддержали варягов в отказе признать полноту своего поражения и готовности сохранить Киев хоть за малолетним Рюриковичем, лишь бы не уступить Нискиничу. Тем более что дополнившее отряд Свенельда полянское земельное ополчение (созыв которого варягам волей-неволей пришлось одобрить) успешную оборону уж точно гарантировало.
Впрочем, довольно скоро стремление полянских верхов любой ценой отстоять Киев дополняется некоторыми новыми мотивами. Потому что соседи-соперники с многовековым стажем лучше всех прочих славян, не говоря уж о варягах, знали, насколько не любят древлянские князья попусту лить кровь. И когда за отказом киевлян сдаться на милость казнивших Игоря тут же не последовал бросок древлянской армии за Ирпень, полянские старейшины поняли, что прямой угрозы им и их владениям нет. А те, кто сумел оценить логику действий древлян в 914 году, вполне могли начать догадываться, куда клонит Мал сейчас. Но даже не будучи уверены в том, что противник вместо дальнейшего обострения уже взял курс на сворачивание вооружённого конфликта, знакомые с военным делом полянские бояре должны были сознавать, что одолеть тех, кто смог уничтожить великокняжескую гвардию – это не самая простая задача. При этом желание избавиться от древлянского княжеского дома, который из регионального конкурента теперь превратился ещё и в лидера общеславянского патриотического сопротивления, безусловно, продолжает сплачивать все разновидности киевских коллаборационистов. Однако те из них, кто сохранял способность трезво оценивать соотношение сил, отдавали себе отчёт, что настоящий кровавый и безоговорочный разгром древлян в очередной раз может остаться лишь мечтой. А в реальности всё опять закончится заключением мира, после которого Древлянская земля как особая политическая и военная единица продолжит существовать и искать возможности для дальнейшего укрепления.
Причём если в прошлые разы варяги покоряли Древлянию своими силами (и, соответственно, забирали себе все последующие выплаты), то предстоящее вторжение, очевидно, будет совместным. Что при более-менее благоприятном исходе сулит какую-то долю в очередной древлянской дани. Правда, вместе с данью придётся также делить с варягами ненависть древлян к явным врагам, и какие плюсы и минусы в таком случае будут перевешивать, сказать трудно. А вот с чем не поспоришь, так это с тем, что после успешного похода варяжские дружинники останутся в строю, а полянское ополчение будет распущено. Знаменуя этим не только конец войны, но также то, что для варяжских главарей их полянские соседи перестают быть жизненно важными союзниками и должны вернуться к своей основной роли технических подручных, призванных обеспечивать текущее администрирование внутренней жизни своей земли.
Всё это настолько лежало на поверхности, что даже не самые прозорливые полянские “лучшие люди” должны были смекнуть, что для них процесс подготовки к войне, когда они могут объясняться с варягами на равных, гораздо выгоднее, чем сама война и то, что последует за ней. После чего, обсудив ситуацию в своём кругу, местные землевладельцы продолжают вторить словам варягов о древлянах-бунтовщиках и о том, что все верные поданные Игоря перед небом и людьми обязаны сурово отомстить за смерть своего князя. А на деле продолжают добросовестно заниматься лишь тем, что служит собственно обороне, тогда как мероприятия, необходимые для наступления, начинают осторожно, но повсеместно тормозиться и затягиваться. Ну и почти наверняка при всяком удобном случае предпринимаются попытки выторговать себе дополнительные права и полномочия, а самое главное, утвердить решения о расширении своего функционала не в чрезвычайном, а в обычном порядке, так чтобы эти решения продолжили действовать и в мирное время.
Ольга: Поскольку её планы по поводу себя и сына простирались гораздо дальше вторых ролей, а тем более в Коростеньской славянской федерации, то вдовствующую княгиню-мать, разумеется, не обрадовала перспектива сменить регентство на замужество. Но какие-то иные схемы мирного взаимодействия с древлянами Ольга и стоявшее за ней либеральное крыло варягов, возможно, и были бы готовы обсуждать. Если бы были предоставлены сами себе и могли принимать решения, ни на кого не оглядываясь. Однако в жизни возглавивший страну регентский совет состоял из трёх человек. Так что Ольга, имея в нём один решающий голос, могла реализовывать свои идеи только в связке с варяжскими либо полянскими волками, ведомыми Свенельдом и Асмудом. Понимая это, вдова Игоря почла за лучшее не вдаваться в пустые словопрения и сделать вид, что она тоже желает поквитаться за покойного мужа. И такое сплочение основных киевских сил – пусть и по очень разным мотивам – окончательно закрывает путь к какому бы то ни было мировому соглашению с древлянами.
Вместе с тем, следуя своим личным стратегическим планам, Ольге стоило принять все меры, чтобы ожидаемый крах переговоров как можно меньше затронул её с таким трудом создаваемую репутацию объективного и чуждого экстремизму политика. Без особых усилий находится и вариант, позволяющий сохранить лицо и перед волками, и перед “овцами”. Раз уж уйти от войны дипломатическими ходами в данном случае не удастся, и она, Ольга, должна играть в предстоящем бессодержательном спектакле заглавную роль, так пусть хоть формальная ответственность за неуспех переговоров ляжет не на неё, а на противостоящую сторону. То есть на древлянскую делегацию, которая в какой-то момент сама откажется продолжать диалог (хотя и не без помощи извне в виде постоянных встречных претензий, доводимых до заведомого абсурда).
И вот, внешне приняв предложение о браке за основу, Ольга начинает требовать от древлян дополнительных уступок, затем дополнительных к дополнительным, заводятся углублённые дискуссии о том, какой уровень почестей надлежит воздавать сватаемой великой княгине Киевской, а какие чествования для неё недостаточны, и так далее в том же духе. Ведь и сами древляне всегда стремятся даже в мелочах соблюсти честь и не уронить достоинства родной земли, так что им грех пенять, когда сходным образом поступает кто-то другой. А перед “своими” затягивание переговоров объясняется, конечно же, необходимостью выиграть время для сбора сил.
Но этот, казалось бы, вполне здравый план начинает пробуксовывать, едва коснувшись реальной почвы. Древлянская делегация и не думает оскорбляться тем, насколько откровенно ей морочат голову, и вместо того, чтобы “хлопнуть дверью”, начинает вносить свою лепту в пустопорожние согласования, причём без всяких признаков того, будто это занятие может наскучить ей в обозримом будущем. Хотя, конечно же, древлянские дипломаты скоро поняли, что прямого толку от переговоров не будет и мира домой им не привезти. И всё же они признают целесообразным – в рамках своих полномочий или дополнительно согласовав этот вопрос с Коростенем – поддержать линию киевских собеседников и использовать пребывание во враждебной столице для уточнения сведений о готовящемся вторжении, а также для противодействия антидревлянской пропаганде и разъяснения истинных целей борьбы своего народа.
По всей видимости, варяги, считая реальной угрозу древлянского похода на Киев, на первых порах тоже согласились с тем, что переговоры – это хороший способ потянуть время, и что не следует сразу отказывать “сватам”. Но вот к Киеву стали подтягиваться войска, и строго вслед за ростом их численности выжидательно-оборонительные настроения вытесняются у радикалов всякого свойства активно-наступательным зудом. Впрочем, полян среди любителей войны было не очень много, а основную массу “непримиримых” составляли варяги, ориентировавшиеся на Свенельда. Но эту часть киевлян пребывание в столице “древлянских шпионов” действительно начинает крайне раздражать.
Вот только одной своей волей прекратить переговоры, санкционированные единогласно, воинствующее крыло варяжской партии не может. А партнёры по правительству без всякого энтузиазма встречают призывы на тему, что игра в прощупывание и без того совершенно ясных позиций давно потеряла смысл, и что этот спектакль пора заканчивать. Полянские бояре (которые никуда не спешат) неизменно ссылаются на то, что война с древлянами – серьёзное дело, и тут лучше перестраховаться при подготовке и трижды всё проверить, нежели потерпеть ещё одну неудачу. Равным образом и Ольга отказывается указать послам Мала на дверь, продолжая настаивать, что “морочить им голову” по-прежнему полезно и даже необходимо. Нет, это просто наваждение какое-то! Все вдруг словно ослепли и не замечают, что тактика дипломатических проволочек себя исчерпала, поскольку время работает уже не на Киев, а на его врагов!
Впрочем, долго ломать голову над этой загадкой варяги не собираются. Они воины, а не коридорные стратеги, и тем, кто пытается интриговать против них, стоит помнить, что варяжские мечи не привыкли ржаветь в ножнах! Так что, задумав оборвать без нужды затянувшиеся переговоры, почитатели традиций Рюрика и Олега выбирают самый лобовой и, на их взгляд, эффективный способ – уничтожение древлянской делегации. Этим “ультра” рассчитывают не только устранить “иллюзии” о возможности какого-либо примирения с древлянами, но и, выставив Ольгу причастной к столь вопиющему преступлению, остановить рост её личной популярности у славян и накрепко привязать к своей фракции.
Однако и эти расчёты не выдерживают столкновения с жизнью. Потому что Ольга от лица всех умеренных варягов поспешила отмежеваться от гнусной провокации и пообещала лично проконтролировать расследование случившегося*. И нашла в том полную поддержку полян снизу доверху.
Разумеется, отношения полян к древлянам были далеки от дружеских. Но, понадеявшись на это, варяжские экстремисты упустили из виду, что славяне тогда совершенно иначе, чем они сами, смотрели на проблему соотношения подлости и военной хитрости и считали нерушимыми обычаи, гарантирующие неприкосновенность гостей и тем более официальных послов. Так что, не собираясь жалеть соседей при встрече с ними в открытой схватке, убийство в Киеве мирной древлянской делегации простые поляне восприняли как позорное пятно на честь их всех как народа. А полянскую верхушку дополнительно разозлило то, что с ними не посоветовались и даже не известили заранее, а поставили перед свершившимся фактом. Поэтому бояре-коллаборационисты, раз уж они действительно были тут ни при чём, а к Киеву успели подтянуться отряды земельного ополчения, позволили себе проявить принципиальность и также осудили провокацию “ультра”. В результате последние оказались в полной изоляции, и это позволило Ольге пойти в деле заглаживания инцидента настолько далеко, насколько это вообще было возможно.
О чём молчит летопись. В самом деле, уже давно подмечено, что пресловутые “три казни” Ольги очень точно совпадают с элементами языческого погребального обряда. Понятно также, что в представлениях искренне религиозного человека – а в Х веке таких было абсолютное большинство – неправильное обращение с покойным страшнее самой лютой казни. Потому что лишение жизни касается лишь бренной плоти, которую через десяток-другой лет так и так ждёт конец, а неточное соблюдение похоронно-траурных процедур, обрекая на скитания и мытарства бессмертную душу, может, соответственно, обернуться вечным ущербом.
В связи с чем не приходится исключать, что по горячим следам покушения на послов могли последовать предложения в том смысле, что раз за древлянами имеется кровавый долг, требующий возмездия, то следует усугубить оскорбление и, скажем, “бесчестно” закопать убитых, а то и вовсе протащить их за лошадиным хвостом. И становится ясно, что хотя погребение по всем правилам – это было всё, что могла сделать Ольга в счёт хотя бы частичного искупления вины Киева перед Коростенем, для 945 года это было совсем не так мало.
При этом для матери Святослава защита права покойных древлян на нормальные похороны не была лишь покаянным жестом, но лежала строго в русле её курса на обеспечение права всех своих подданных, начиная со славян, свободно следовать исконным национальным традициям и обычаям. Так что достойные проводы в последний путь убитых послов были нужны Ольге едва ли не больше, чем самим древлянам. Ибо без этого все её предыдущие прославянские акции и декларации оказались бы во многом обесцененными. Напротив, проявление благородства и уважения к противнику, готовность признать и по мере сил загладить свою неправоту (ведь правительство в любом случае обязано обеспечивать безопасность иностранных представителей) в чём-то даже поднимали авторитет как раз княжеской власти и лично Ольги. А также снижали резко возросшую напряжённость в отношениях с Древлянской землёй и поворачивали общую ситуацию по направлению от войны. Недаром варяги сочли необходимым сорвать впечатление и от этого мероприятия.
Из чего это следует? Из того, что “третью казнь” Ольга проводит на тризне по Игорю в Древлянской земле. В связи с чем сразу встаёт вопрос: а при чём тут вообще поминки на берегу Ужа, если древлянских послов убивали в Киеве?
С учётом всего вышесказанного ответ напрашивается сам собой. Ведь если в Коростене были всерьёз обеспокоены посмертным бытием своих официальных посланцев (а значит, людей несомненно знатных и заслуженных), то варягов – и ничуть не меньше, чем древлян – смущало, что их глава убит “во пса место” и до сих пор пристойно не погребён. И подталкивая вторжение, они рассчитывали в том числе поскорее оказаться на месте последнего боя Игоря и помочь его душе упокоиться с миром.
Между тем убийство послов вместо ожидавшегося подъёма воинственного духа обернулось лишь ростом недоверия и возмущения со стороны не только древлян, но и полянских союзников. А последнее в текущих обстоятельствах крайне не желательно. И под давлением Ольги и Асмуда, с одной стороны, и наблюдаемого хода событий – с другой, Свенельду также приходится отказаться от дальнейшего нагнетания обстановки и согласиться на расследование убийства и нормальные похороны убитых.
Но варяги не были бы варягами, если бы даже из провалившейся операции не попытались извлечь хоть какую-то выгоду для себя. Так что, убедившись, что война совсем не так близка, как казалось, и что надругательств над телами древлян не будет, лидеры варяжских “непримиримых” выдвигают в качестве условия своего согласия на полноценные погребальные церемонии по погибшим послам проведение аналогичных церемоний также по Игорю и его дружине. А поскольку предложение-требование обменяться посмертным благополучием павших с обеих сторон по-своему очень логично и абсолютно в духе времени, то сначала Ольга, а затем и древляне поддерживают его.
В отсутствие же такой поддержки киевская делегация, даже если бы она рискнула двинуться в самое сердце Древлянской земли, всё равно никогда бы туда не добралась. Потому что древляне на тот момент считали себя свободными от каких бы то ни было юридических или фактических обязательств перед Киевом и воспринимали Русскую державу просто как соседнее государство, причём скорее враждебное. Ведь это в его столице уже давно и откровенно тянут с заключением мира, а тут ещё допустили убийство ведших переговоры древлянских дипломатов. И поскольку в отношениях с такими соседями бескорыстная филантропия абсолютно неуместна, то “за просто так” древлянские князь и старейшины не сделали бы и полшага навстречу желанию варягов воздать последние почести праху своего вождя и соратников.
Не соблазнила бы Коростень и ординарная мзда, будь то куны, скот, серебро или иные вещные подарки. Издавна практикуя покупку за чистоган других, древляне на массе живых примеров убедились, что есть вещи, в частности, чувство собственного достоинства, которые, однажды продав, потом не вернуть ни за какие деньги. И потому своими принципами никогда не торговали даже под угрозой жизни. Так что только какая-то строго равноценная услуга, скажем, допуск древлянских представителей на полянский берег Днепра для проводов в последний путь погибших там соотечественников, могла побудить Мала ещё до заключения мира пропустить киевских представителей через свою землю к месту захоронения их князя.
Как следствие, несмотря на попытки летописи о том промолчать, поминки по Игорю в Древлянской земле красноречивее любых слов доказывают, что параллельно с ними проходили поминки в Киеве по древлянским послам. Ибо в 945 году могло быть либо две тризны, либо ни одной, так как если бы в Коростене стали упорствовать, то и варяги вряд ли согласились на ритуально выверенные похороны убитых древлян.
Соответственно, первым шагом к таким церемониям – с учётом контекста – должно было стать некое соглашение с элементами перемирия, оговаривающее порядок пребывания каждой из делегаций на сопредельной территории. И в сочетании с общим скорбно-возвышенным эмоциональным фоном траурных обрядов это остановило, а может, и повернуло вспять рост культивировавшихся варягами погромных ура-патриотичеких настроений. Естественно, не оставались в стороне от процесса расхолаживания антидревлянского ажиотажа и сами древляне, используя всякий повод напомнить простым полянам, кто является их действительными врагами, а кто – союзниками.
Но точно так же не сидели сложа руки враги древлян. Коим вместо задуманного перехода к боевым действиям пришлось иметь дело с сохранением и даже расширением пусть не вполне мирных, но и не военных контактов с соседями, получившими основание говорить о том, что “кровь за кровь” уже пролилась. И затягивание такой паузы, с точки зрения волков всех шерстей, могло критически понизить градус агрессивности полянского общественного мнения и укрепить позиции тех, кто готов пойти на мировую с Коростенем. Поэтому, дабы “доказать”, что древляне – это не люди, с которыми можно ладить, а сущие звери, “ультра” задумывают и реализуют ещё одну провокацию: под конец траурных церемоний по Игорю с дружиной, когда все основные обряды были проведены и уже ничто не могло повредить душам покойных, на завершающей тризне учиняется вооружённый инцидент с кровопролитием.
В самом деле, устроить побоище на тризне в Киеве, во-первых, сложно. Ибо теперь на охрану древлянской делегации встали посты полян-ополченцев, кои хотя и не питают к древлянам тёплых чувств, тем не менее твёрдо намерены более не допускать никаких пятнающих честь страны происшествий. А во-вторых, убедительно переврать происходившее на берегах Днепра и выдать зачинщиков стычки за её безвинных жертв было бы крайне затруднительно. Ну какой нормальный человек поверит, будто древляне, находясь в безусловном меньшинстве, почему-то вдруг решили поднять руку на хозяев? Так что ещё одна чересчур явная провокация легко может восстановить полян не столько против древлян, сколько против варягов как её очевидных авторов.
Иное дело, если из Древлянии вернётся несколько пострадавших, и вся делегация будет в один голос утверждать, что “они напали, а мы только защищались” (причём, не видя начала потасовки, многие из этих очевидцев будут совершенно искренне клеймить “злобное коварство” древлян). Тогда даже если кто-то усомнится в достоверности услышанного, не имея данных, позволяющих убедительно отклонить или хотя бы поставить под вопрос официальную версию, такой “кто-то” будет вынужден лишь разводить руками да помалкивать. И в целом можно с полным основанием рассчитывать, что известие о нападении древлян на траурную делегацию из Киева вдохнёт новую жизнь в начавшие было угасать карательные настроения и наконец-то пресечёт разговоры о возможности урегулировать конфликт без новой крови.
При этом вариант, когда древляне и впрямь не на шутку разъярятся и просто перебьют всех своих беспардонных гостей, заведомо исключался. Ведь, помимо всех согласованных гарантий, прибывшие в чужие земли высокие делегации сами по себе являлись заложниками друг за друга, и потому потенциальные драчуны могли быть уверены, что охрана сделает всё возможное для спасения их жизней. Так что главная трудность для получивших задание задирать древлян состояла не в том, чтобы потом уцелеть, а в том, чтобы найти среди хозяев того, кто под влиянием эмоций мог бы забыть о дисциплине и полученных от руководства строжайших указаниях проявлять выдержку и сохранять спокойствие, что бы ни происходило.
Однако среди множества людей всегда найдётся кто-нибудь более впечатлительный и возбудимый (к тому же тут и впрямь могло сыграть свою роль хмельное, ибо древляне, как принимающая сторона, просто обязаны были разделить трапезу с варягами). Так что в конце концов варягам удаётся в ответ на свои подзуживания получить “оскорбление действием” и по этому поводу самим взяться за оружие. Тут уже, естественно, в дело вмешивается стража и более трезвые участники поминок и разводят дерущихся. Но несколькими ранами схватившиеся успевают обменяться, а чтобы представить перемирие полностью сорванным большего и не требуется.
И дело тут даже не в том, что рядовые обыватели, не стесняясь в словах, клянут предательскую сущность древлян или варягов; с этим ещё можно было бы справиться. Самое главное, вылазка “ультра” заставляет серьёзных политиков в Киеве и Коростене признать, что новые попытки наладить диалог приведут не к миру, а лишь к очередным вылазкам, и потому бессмысленны.