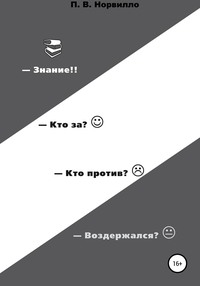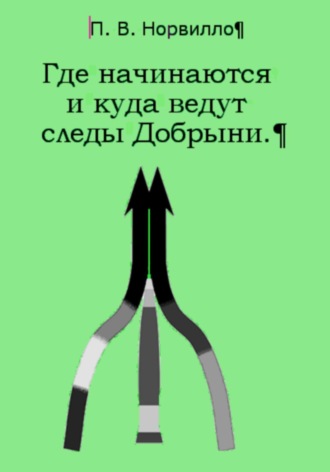
Полная версия
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
Резюмирую: какими бы ни были личные впечатления участников от состоявшегося в 946 году боестолкновения, и сколь бы бодрые либо, наоборот, пессимистичные доклады ни слали они в свои столицы, все прямые и косвенные свидетельства убеждают, что фактические потери были сравнительно умеренными для обеих сторон, и к критическому подрыву военной силы древлян эта стычка точно не привела.
С полным правом то же самое можно сказать и о последующих событиях. Ведь если бы киевскому войску удалось спровоцировать осаждённых на неудачную вылазку или добиться какого-либо иного заметного успеха, то киевская хроника вряд ли упустила повод поиздеваться над очередным унижением древлян. Но о защитниках Коростеня говорится лишь, что они “боряхуся крѣпко изъ града”. А эта фраза и сама по себе, и в сравнении с другими летописными эпизодами, где фигурируют сходные оценки, заставляет думать, что борьба вокруг городских стен носила равный характер либо даже протекала с некоторым психологическим преимуществом осаждённых.
Правда, обращаясь к коростеньцам, Ольга упоминает ещё и голод. Каковой действительно способен без всякого кровопролития поставить на колени любую силу. Однако при ближайшем рассмотрении и эта угроза перестаёт выглядеть неотразимой. Начать с того, что жителям древлянской столицы было не впервой выдерживать осаду, так что они знали, как к ней надо готовиться, а приход киевской рати внезапным уж точно не был. С другой стороны, топография Коростеньского опорного узла такова, что для его полной блокады потребно войско, минимум в 3-4 раза превышающее мобилизационный потенциал Русско-Полянской земли образца Х века. Призвать же на внутреннюю операцию силы с Руси в широком смысле даже Игорь не имел права, почему и отправился на древлян с одной лишь великокняжеской дружиной. И разгром и смерть старого князя в этом плане ничего не меняли, если не считать дополнительного ограничения возможностей нового киевского правительства что-либо требовать от федеральных земель. Так что даже сводная поляно-варяжская группировка была заведомо не в состоянии хоть сколько-нибудь полно перекрыть осаждённым коростеньцам пути сообщения с внешним миром.
Да, но если ни в военном, ни в бытовом отношении древляне не были загнаны в угол, то откуда тогда взялась полная капитуляция? Если защитники Коростеня сохраняли способность сражаться, но не считали это лучшим вариантом, то почему они не выторговали себе мир на прежних либо даже более почётных, чем после смерти Олега, условиях? Так, может быть, интервенты всё-таки нашли уязвимое место в их позиции?
Умозрительно можно представить себе и такое (например, когда осаждающим по ходу в целом отбитого штурма удаётся захватить кого-то из членов княжеской семьи, и Мал, чтобы спасти его жизнь, соглашается сдаться). Но применительно к любому реальному достижению киевских сил сразу встаёт всё тот же вопрос: почему об этом молчит летопись? Ведь история Рюрика, Олега, Игоря, Свенельда, Ярополка и проч. безусловно убеждает, что для варягов все средства были хороши, лишь бы они приближали победу, и не было такой хитрости или подлости, которая могла бы показаться им чрезмерной по отношению к врагу. Так что даже если бы ворота Коростеня открыли подкуп и предательство, для варяжского Киева это всё равно был бы абсолютно полноценный успех, о котором не грех поведать потомкам.
Отсюда то, что выдуманный погром древлянской столицы объясняется выдуманной же уловкой, заставляет считать, что заключённый в 946 году мир и те открытые и секретные статьи, из которых состоял скрепивший его договор, были инициативой не столько нападающих, сколько обороняющихся. А проще говоря, древляне, сохраняя технические возможности для продолжения войны, решили сложить оружие, посчитав баланс выгод и издержек от прекращения боевых действий более предпочтительным, нежели от их затягивания.
Наверное, кому-то такая мысль покажется странной и даже парадоксальной. Какие уж тут выгоды, если древлянские старейшины и сам Мал отправляются в рабство?! Однако не будем забывать, что и после усмирения восстания Ольга не отказалась от курса на ограничение варяжского произвола и установление твёрдого порядка во всех подконтрольных Киеву землях, включая Древлянскую. Напротив, этот подход стал доминирующим, ибо нейтрализация последней славянской династии, достигнутая под общим руководством вдовствующей княгини-матери, капитально укрепила власть и влияние лично Ольги в противовес сплотившимся вокруг Свенельда варягам-традиционалистам.
Тогда как в случае, если бы Мал с теми или иными уступками удержал своё княжение, то совершенно очевидно, что многие в Киеве трактовали бы его только как недобитого и опасного врага, уже обнаружившего свои глобальные аппетиты. А стало быть, представляли собой очень даже благодарную аудиторию для рассуждающих о том, что, мол, дело не доделано, угроза не устранена, и потому надо сохранять бдительность, держать мечи наточенными, не давать никому послаблений и т. д. То есть, сохраняя за собой трон, страну и армию, Мал, помимо всего прочего, объективно расширял бы социальную базу и укреплял позиции при киевском великокняжеском дворе своих главных врагов. Конечным результатом чего просто не могли не стать новые провокации против Древлянской земли, причём ровно в тот момент, какой Свенельд и иже с ним сочли бы удобным для себя и наименее подходящим для противника.
А война суть дело обоюдоострое. И если на данном этапе Мал и его народ имеют возможность выбирать, то чем обернётся конфликт, пришедший, может, через 5, а может, через 15 лет, точно не скажет никто. Поручиться можно лишь за новые жертвы, а также за то, что в случае победы Киева она будет целиком занесена на счёт проявившей “твёрдость и принципиальность” партии войны и террора – она же варяжская партия, – понятное дело, в ущерб весу и влиянию “либералов”, опекаемых Ольгой. Если же древлянам и ещё раз удастся отбиться, то лозунги мести и реванша останутся в силе и всё пойдёт по новому кругу.
Собственно, как это уже и было с Игорем. Но о сдаче на милость достойного наследника Рюрика нечего было и думать. Потому что, положив конец открытым войнам, такая капитуляция одновременно стала бы началом планомерного административного уничтожения древлян как самобытного народа. У Ольги другая цель и другие методы, так что перспективы примирения с ней выглядят гораздо более благоприятными. Однако вдова Игоря далеко не Игорь ещё и по своей реальной власти, и киевская политика зависит не только от её воли. Зато как раз древляне в состоянии помочь ей резко повысить своё влияние вплоть до превращения в главную фигуру в киевской иерархии. Вот только сделать это они могут одним-единственным способом – капитулировав перед ней, причём непременно “с первой попытки” и никак иначе.
Как видим, вариантов здесь совсем не много, так что любой более-менее грамотный политик мог быстро в них разобраться. Что же касается Мала, то у него, при наличии отличной выучки, отсутствовала необходимость срочно что-то предпринимать, а напротив, имелось по меньшей мере несколько недель, чтобы сравнительно спокойно обдумать все вновь открывшиеся обстоятельства и решить, какой способ действий точнее других согласуется со стратегической задачей сохранения жизни и благосостояния соотечественников. В связи с чем предположение, что при заключении мира 946 года позиция древлянского руководства была ничуть не менее активной, чем у Ольги, перестаёт выглядеть таким уж абсурдным. Более того, общий контекст ситуации свидетельствует в пользу того, что курс на сворачивание кровопролития и принципиально мирный и договорный выход из конфликта древлянский князь взял не после, а задолго до упомянутой в летописи битвы. А затем пошёл ещё дальше и целенаправленно обменял свой высокий официальный статус на более спокойное будущее древлянского народа, а отчасти и всех других славян Киевской федерации, положение которых было облегчено политикой Ольги.
Да, трудно спорить с тем, что в подобной завязке есть что-то от сентиментально-романтической баллады. И всё-таки гораздо больше в ней от логики государственного строительства и связанной с этим политической борьбы. Причём для реализации указанного сценария требовалось совсем не так много, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы Мал, признав Ольгу своим фактическим союзником, счёл возможным уступить ей ведущую роль в деле защиты славянских интересов, а сам отошёл на второй план, минимально необходимым является следующий набор предпосылок:
1) Мал и Ольга имеют близкие политические взгляды и сходным образом видят основные задачи развития славянской федерации.
2) Мал получает доказательства искренности, а главное, способности Ольги претворить в жизнь их общие планы (какой смысл в партнёре хотя бы и доброжелательном, но не имеющем ресурсов выполнить свою часть договора?).
3) Мал является человеком, способным поступиться личной судьбой ради реализации своих политических планов.
4) Мал и Ольга получают возможность договориться о координации усилий.
И теперь остаётся лишь проверить, что было налицо, а чего явно не могло быть в интересующий нас период.
II
. К вопросу об объективных предпосылках Коростеньского мирного договора 946 года.
1. Предпосылка 1 или были ли Мал и Ольга политическими единомышленниками.
Исследователи, прямо скажем, редко берутся рассуждать о политических представлениях деятелей ранней русской истории. И главной причиной здесь зачастую служит даже не скудость материала, а полная убеждённость в том, что для подобных разысканий просто нет предмета, поскольку в Х веке на Руси ещё не доросли до хоть сколько-нибудь систематизированного видения политических аспектов общественной жизни.
Однако А. М. Членов показал, что к этому времени в славянских землях гражданские и государственно-правовые отношения не только фактически существовали, но и осознавались именно как таковые. Конечно, образно-аллегорическое изложение соответствующих концепций сближало их скорее с фольклорными притчами, чем со стройностью Аристотелевых схем. Но свободная от академической строгости форма ничуть не мешала опираться на эти теоретические построения в практической деятельности и получать – естественно, при условии использования верных посылок – точные политические выводы. Об этом свидетельствуют не только прямые указания источников (число таких указаний действительно невелико, а имеющиеся не всегда связываются с именами и взглядами лично Ольги и Мала). Очень многое о прикладных возможностях использовавшихся тогда политических теорий говорит сам общий ход событий, основные этапы и переломные моменты которого можно проследить с полной уверенностью и независимо от того, как воспринимали эти события их современники, о чём они были готовы сообщить, а о чём пытались умолчать.
Первым делом здесь хочется обратить внимание на предшествовавшие казни Игоря 60 с лишним лет, в течение которых древляне, став в 883 году данниками Олега, затем терпеливо и последовательно отбирали назад рубеж за рубежом вплоть до полного восстановления былой независимости. Да, в чистом виде свобода длилась недолго, но зато следующие за этим почти 30 лет не отмечены никакими открытыми внутренними конфликтами. И если бы не династические притязания Свенельда, внутренний мир и стабильность на Руси вполне могли продержаться и ещё дольше.
При этом в IX-X веках за 60 лет могли смениться не одно и даже не два поколения правителей. Из чего следует, что схватка с Игорем была для Мала не обычной самообороной или сведением личных счетов, но закономерным продолжением династической политики национального древлянского сопротивления. Равным образом сын и внук Мала в своём противостоянии с любителями безграничного произвола защищали не только себя и своих земляков. Принимая вызов, брошенный им верными последователями Олега и Игоря, Добрыня и Владимир в очередной раз подтверждали, что боевые заветы древлянской династии живы и готовы проверить на прочность любого врага.
Идём дальше: начавшееся в 980 году правление Владимира в Киеве даёт много иллюстраций активного и зачастую определяющего влияния князя и его дяди на самые разные стороны жизни страны и общества. Всё это факты, зафиксированные письменными и материальными памятниками той эпохи (хотя и не всегда “Повестью временных лет”). А поскольку в вопросах государственного администрирования древлянские лидеры тоже вряд ли отступали от заветов своей династии, то отсюда следует, что уважение к традициям и институтам патриархальной демократии не мешало древлянским князьям быть в Коростене столь же значимыми фигурами, как Добрыня в Новгороде и Владимир в Киеве. Так что хотя отредактированная Ольгой летопись, стараясь выгородить Мала, всячески акцентирует момент коллегиальности в принятии древлянами важнейших решений, наверняка и в 940-946 годах ведущую роль в анализе быстро меняющихся условий и выборе отвечающих им маневров играл лично князь.
А чтобы оценить сложность и качество проделанной им работы, опять-таки достаточно вспомнить трагическую эпопею 972-980 годов, потрясшую всю Русь и наглядно показавшую, какие силы стояли за продолжение жёсткого варяжского диктата и какие амбиции были скованы договором 946 года, а затем четверть века обуздывались Ольгой. И на одном этом основании можно смело утверждать, что Мал и Ольга были одними из самых подготовленных и свободно мыслящих политиков своих земель, а может, и всего своего времени.
С другой стороны, казнь Игоря, а через 35 лет его внука Ярополка показывают, что там, где это имело смысл, Нискиничи не стеснялись действовать предельно жёстко. Так что держаться взвешенного и в целом миролюбивого стиля правления древлянских политиков побуждали не чья-то личная сентиментальность или идеалы абстрактного гуманизма. Просто в те времена, на фоне сравнительно невысокой производительности труда и располагаемых частных и государственных доходов, гораздо заметнее было то, что внутренние конфликты, кто бы ни считал их результаты своей победой, для страны в целом несут одни потери, прямо пропорциональные размаху и активности протестов.
Что, впрочем, не для всех служило сдерживающим фактором, и не все венценосцы, вздумавшие править, как левая нога пожелает, сталкивались с прижизненным возмездием за свои фантазии. Как следствие, у большинства тогдашних народов имелись собственные воспоминания об “удачных” попытках переключить механизмы публичной власти на обслуживание личных прихотей, а также периодически появлялись желающие ещё раз испытать судьбу подобных “счастливчиков”.
Но древлянские князья и здравомыслящая часть варяжских командиров смотрели прежде всего вперёд, а не только под ноги, и создание надёжных основ для процветания или хотя бы уверенного выживания своих наследников интересовало их гораздо больше любых сиюминутных удобств. Поэтому, работая на перспективу, Мал и ставшая лидером умеренных варягов Ольга, во-первых, добивались от общих планов и текущих шагов руководимых ими государств доброкачественных практических последствий. А во-вторых, заботились также о подведении под свою политику идеологической базы, доступной для понимания возможно более широких слоёв подданных. Соответственно, мать Святослава для обоснования присутствия сына на киевском троне и собственного вклада в жизнь страны привлекала теорию династического права. Со своей стороны глава древлян, отвергая притязания Игоря и разъясняя устами направленных в Киев послов причины его ликвидации, ссылался на модель, уподобляющую недостойного правителя волку в стаде, а достойного – рачительному пастуху.
При таких вводных люди, живо интересующиеся концептуальными основами власти и права, едва ли могли пройти мимо важных теоретических следствий, не то что вытекающих, а яркой вспышкой высекающихся из столкновения лоб в лоб двух политических доктрин. Следствия же эти таковы:
1) Определяющей для национальности не только правителя, но и всякого гражданина является не кровная принадлежность к тому или иному народу, а действия по отношению к стране проживания.
2) Правитель и гражданин, распасающие страну проживания, суть аборигены независимо от происхождения.
3) Правитель и гражданин, расточающие страну проживания, суть варяги независимо от происхождения.
4) Варяги могут покорить аборигенов, но до тех пор, пока в последних сохраняется хоть капля гордости и мужества, перед первыми будет стоять перспектива восстания и новой освободительной войны против них.
Таким образом, будучи взяты в комплексе, доступные нам данные говорят за то, что будущие организаторы династии подлинно русских князей, опираясь на средства “тёмного” и “непросвещённого” Х века, действительно смогли заглянуть на эпохи вперёд, через XVII-XIX века и вплоть до кампании 1917-1920 годов. Потому что, разглядев в межэтническом по форме конфликте зарождающуюся внутринациональную классовую борьбу, представить себе её предельное выражение – взаимно беспощадную гражданскую войну славян-якобы-овец против славян-сущих-волков – было уже делом техники.
Сообразив всё это, ответственные государственные деятели должны были дополнительно укрепиться во мнении, что лучше не допускать критического обострения внутренних противоречий, нежели потом пытаться устранять последствия открытых столкновений между “своими”, начавшими воспринимать друг друга как совершенных “чужаков”, не подпадающих под нормы человеческого обращения. А как люди, смотревшие на жизнь с вершин административной иерархии, Ольга и Мал (на первых порах, скорее всего, независимо друг от друга) посчитали, что наилучшей гарантией от превращения внутренних дел государства во внутренние фронты является сильная централизованная власть, способная в том числе жёстко осаживать начинающих звереть бояр-наместников, не давая им задирать сверх меры подданных и тем провоцировать последних на ответные акции.
Вот она – формула “золотого века”, веками питавшая потом мечту социальных низов о мудром и заботливом правителе, готовом судить строго “по правде” и не взирая на личности! Но истоки этой мечты лежали не в избах, и соответствующие сказочные сюжеты питались не одной лишь народной фантазией. Формирование у соотечественников именно таких представлений о власти являлось одним из стратегических приоритетов как раз владельцев Коростеньского княжеского дворца.
А самое главное, что в этом деле древлянские князья не ограничивались одними благими пожеланиями, но внимательно следили за тем, какие элементы их повседневной административной практики давали желаемый результат, а какие тормозили движение к намеченной цели. После чего находки и приёмы, доказавшие свою эффективность, оттачивались до полного совершенства и разъяснялись отцом сыновьям как важнейшая нематериальная часть того наследия, которое им предстоит хранить и приумножать. И постепенно классификация и более общее осмысление превращают набор рекомендаций по решению конкретных управленческих задач в целостную политическую концепцию по сохранению и развитию страны, государства и его граждан. Что дополнительно способствовало распространению во всех слоях древлянского общества единых представлений о государственной дисциплине и о соотношении прав и обязанностей управляющих и управляемых, ещё больше укрепляя положение правящей династии.
Впрочем, последнее никогда не становилось для древлянских князей поводом почить на лаврах, прекратить поиски и в дальнейшем следовать лишь готовым шаблонам и рекомендациям. В теории, как и в практике, Нискиничи всегда шли от жизни и за жизнью, воспринимая заветы предков именно как общие принципы, конкретная форма реализации которых может варьироваться с учётом текущих задач и складывающейся обстановки. Вплоть до уточнения самих исходных посылок. Так что когда Х век в лице Мала и Ольги, восприняв базовые положения древлянской теории управления, в то же время внёс в неё ряд существенных обновлений, это ничуть не нарушило старинной традиции, а напротив, лишь подтвердило её актуальность. Хотя для воззрений, основанных преимущественно на патриархальном материале, вопросы, вставшие перед реформаторами Руси во второй половине Х века, были не дежурными тренировочными примерами, но предельно серьёзной проверкой на прочность.
Причём главной проблемой для сторонников либерализации внутренней политики русской державы было, пожалуй, даже не наличие в Киеве сильной придворной партии, настроенной против таких перемен. Ведь варяги сделались на Руси политическим явлением отнюдь не только из-за чьих-то личных пристрастий. В гораздо большей степени это было внешне своеобразным, но по сути абсолютно логичным проявлением общеисторических закономерностей. И те, кто желал направить жизнь страны в иное русло – в каких бы терминах эти пожелания ни формулировались, – должны были если не во всех деталях, то хотя бы в общем виде представлять себе доминирующие тенденции и, если угодно, запросы эпохи. Потому что пытающиеся действовать вопреки ходу истории в лучшем для себя случае ничего не добьются, а в худшем – будут просто перемолоты в её жерновах. Разобраться же в том, “откуду Руская земля” в её нынешнем виде “стала есть” и куда теперь эту махину можно сдвинуть, для участников обсуждаемых событий было задачей весьма и весьма заковыристой.
Не говоря уже о том, что разбираться надо было не в какой-то “седой старине”, а в протекающих буквально за окном процессах (и от точности получаемых выводов, помимо всего прочего, напрямую зависела личная судьба исследователей), сама эпоха создавала дополнительные трудности для своего понимания. В самом деле, если задаться целью как можно более кратко описать общественно-экономическое состояние восточнославянских земель в начале IX века, то окажется, что его обобщённую оценку можно уложить всего в одно слово, и этим словом будет – переходное. Ибо, с одной стороны, жизнь пока сохраняла многие черты патриархально-родового уклада. Однако, с другой стороны, социальные и политические элементы идущего на смену родовому строю феодализма уже не просто существовали, но существовали давно, успели достичь высокой степени зрелости и занять прочное место во взаимоотношениях самых разных групп людей. Что создавало почву для множества разных и порой весьма запутанных и потому любопытных коллизий, но по этой же причине анализировать периоды такого формационного междуцарствия всегда сложнее, чем уже развитые и устоявшиеся системы общественных отношений.
Что же касается существа вопроса, то и современникам происходившего, и их заинтересовавшимся историей потомкам для продуктивного анализа стоило в первоочередном порядке учитывать следующие моменты:
1а) Постоянная военная угроза от сменяющих друг друга кочевых народов уже давно превратила военную составляющую власти племенных вождей (князей) из периодически проявляющегося свойства в неотъемлемый атрибут.
1б) Массированный характер внешней угрозы побудил массировать и силы отпора. А взяв старт на юге, процесс создания племенных макросоюзов быстро захватил всю полосу расселения восточных славян от Причерноморья до Ладоги. Впрочем, распространяясь на значительные территории, княжеская власть пока ещё даже не приближалась к абсолютной, поскольку сосуществовала в центре и на местах с органами прямой демократии в виде веча и народных сходов, сохранявших за собой весьма широкие регулятивные полномочия.
2) Несомненное благоприятное влияние специализации на рост мастерства всё резче расщепляет население на потомственные сословия по профессиональному признаку. Так что разделение труда из эмпирического факта экономики за века постепенно превращается в определяющий фактор политической и идеологической жизни общества.
Причём безусловное признание славянами наследственных прав на управление страной за членами княжеской семьи было, возможно, не самым значительным явлением этого рода. Потому что едва ли не более важным по своим последствиям становится появление наряду с народным ополчением, формируемым по мере необходимости из способных носить оружие свободных граждан, слоя профессиональных военных в лице княжих дружинников.
В самом деле, дабы принять на себя главное бремя ратных забот и ощутимо сократить отвлечение землеробов и ремесленников от продуктивного труда, эта категория государевых людей должна была быть достаточно многочисленной. Но, задавая общий курс на специализацию, та же самая экономика задавала и объективные пропорции для численности различных специалистов. Поэтому князьям, которые, конечно же, ничуть не возражали против расширения групп людей, готовых подчиняться лично им, приходилось также соглашаться с тем, что реальное состояние казны позволяет вооружить и содержать на полном государственном обеспечении контингенты, измеряемые сотнями воинов. И это вплотную подводило носителей высшей публичной власти к идее о необходимости укрепления собственной финансовой базы и изыскания более стабильных доходов, нежели военная добыча. Однако в этом вопросе, помимо личных пожеланий, надо было учитывать, что для введения новых налогов, а тем более в денежной форме, одной лишь воли монарха пока ещё недостаточно.