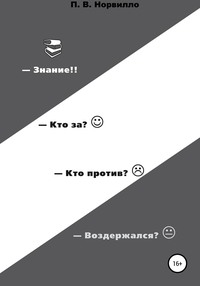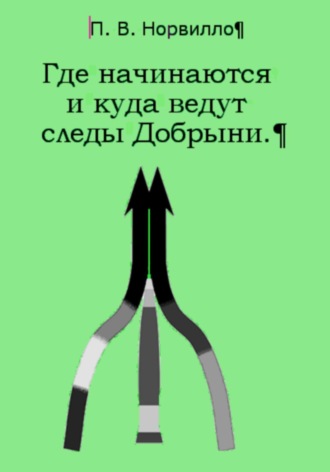
Полная версия
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни

Павел Норвилло
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
В качестве вступления и чтобы сразу отвести от нижеследующих заметок упрёки в анахронизмах, стоит, пожалуй, сказать несколько слов об их (заметок) статусе. Так вот главной особенностью настоящего исследования является то, что в нём, наряду с объективными, будут также рассматриваться и многие субъективные аспекты событий, в частности, Х века. Вместе с тем, поскольку вниманию читателя предлагается не художественная, а научно-теоретическая реконструкция, то, представляя логику размышлений и поступков исторических персонажей, мы не будем даже пытаться загримировать суждения и выводы наших героев под привычный им строй речи. Отдельные эпизоды и лежащие в их основе более глубокие исторические процессы будут разбираться с точки зрения принципов социально-экономического и политического развития, установленных в основном в Новое и Новейшее время. Поэтому планы и замыслы в том числе жителей совсем других эпох будут излагаться, как правило, привычным нам языком, лишь с минимальным привлечением терминов и образов того времени. И если кому-то начнёт казаться, что в излагаемой версии современники Мала и Добрыни рассуждают чересчур уж “по-нашему”, ему следует сделать скидку на то, что перед ним попытка восстановить не форму, а лишь общее содержание, политическую суть намерений и расчётов, которые старались воплотить в жизнь те или иные общественные слои и возглавлявшие их личности. Не больше и не меньше.
I
. К вопросу о субъективных предпосылкахКоростеньского мирного договора 946 года.
Едва ли нужно долго доказывать, что события 946 года занимали в жизни Добрыни исключительное место. Ведь даже когда в 977 году ему и Владимиру приходится покинуть страну, с ними остаётся армия, а главное, остаётся сама Русь, где большинство граждан будут ждать их скорейшего возвращения, горя желанием покончить с возрождённой варяжской диктатурой. Тогда как в 946 году семья древлянского князя теряет всё, включая свободу и возможность прямо влиять на происходящее. И хотя со временем положение пленников меняется к лучшему, совсем не очевидно, насколько реальными были надежды на это и были ли они вообще; всё-таки 10 лет немалый срок. Такие переломы в судьбе не проходят бесследно, а тем более в 10-12 лет, когда человек вообще всё воспринимает ярче и резче.
Поэтому, чтобы хотя бы попытаться понять, чем обернулись лично для Добрыни восстание, а затем капитуляция его родной земли, необходимо ещё раз обратиться к предыстории и всему многообразию ближайших итогов и более отдалённых отголосков вооружённого конфликта, развернувшегося в 945-946 годах между Киевом и Коростенем.
А для начала кратко напомню, как выглядит выступление древлян в свете заслуживающих доверия источников и разысканий А. М. Членова.
Итак, после разгрома варяжской дружины князя Русского Игоря и казни его самого древляне отправляют в Киев делегацию с поручением известить тамошних жителей о том, что их правителя больше нет, а также о принятом в Коростене решении присоединить владения и семью Игоря к владениям и семье князя-победителя Мала. Киевские власти, во главе которых на правах регентши становится Ольга, подобные претензии отвергают, однако, лишившись главных ударных сил, на первых порах предпочитают открыто не обнаруживать своей позиции. По видимости соглашаясь с частью требований древлян, мать юного Святослава отклоняет другие и выдвигает какие-то встречные условия, завязывая таким образом переговоры с Коростенем. Судить об их деталях на основании летописной версии нелегко, но точно можно сказать, что в Киеве побывало по меньшей мере ещё одно древлянское посольство и что параллельно с дипломатическими маневрами в Полянской земле шёл экстренный сбор местного ополчения. А когда в руках правительства Ольги-Свенельда-Асмуда оказывается достаточная вооружённая сила, игра в переговоры с Коростенем резко обрывается, уступая место открытому военному противостоянию*.
В ответ на интервенцию древляне на этот раз дают противнику полевое сражение, однако терпят поражение, после чего “затворяются в городах”, то есть переходят к стратегической обороне с опорой на сеть крепостей. Правда, судя по заявлению самой Ольги, сводной поляно-варяжской армии удаётся взять большинство этих опорных пунктов, но древлянская столица остаётся неприступной всё “лето”. И в конце концов стойкость защитников Коростеня вынуждает киевских находников пойти на переговоры и принять мирную капитуляцию Древлянской земли.
Ближайшие последствия этой капитуляции выглядят весьма сурово: Мал должен был отречься от княжения, все его владения отныне переходили под полный контроль Киева, а сам мятежный князь, его семья и высшая древлянская знать становились пленниками и, по нормам того времени, рабами Ольги и Святослава. (Что же касается уловки с огненосными птицами и кровавого разгрома в 946 году последнего оплота древлян, то эти “подробности” были вставлены в летопись почти сто лет спустя после завершения Второго древлянского восстания.) Но в более отдалённой перспективе понесённые потери в значительной мере компенсируются новым возвышением Древлянской земли и потомков Мала. Уже при Святославе, как это явствует из распределения княжеств между его сыновьями, Древлянская земля в почётной иерархии державы занимает место между Полянской (Русской) и Новгородской. Ещё больше укрепляется значение родины Мала при его внуке Владимире, когда тот становится великим князем всея Руси. А ещё через полвека Киев, оставаясь столицей славянской федерации, становится древлянским городом.
В связи с чем и возникает вопрос: с какими мыслями пошли на мир главные участники осады и обороны Коростеня в 946 году? Предвидел ли хоть кто-нибудь из них, что в итоге из этого получится? Или же эпохальное воздействие пленения Мала и его семьи на последующее развитие Руси (да и не только её) стало полной неожиданностью для всех, включая и тех, кто согласовывал условия капитуляции Древлянской земли и заверял соответствующий акт?
Конечно, следуя здоровому любопытству, подобными вопросами можно задаваться применительно к любому событию, начиная с всемирно-исторических и кончая сугубо частными и семейными. Вот только на достоверные ответы здесь не всегда можно рассчитывать, поскольку выявление замыслов физически уже не существующих людей, а тем более когда имеешь дело с представителями первобытных и раннеантичных культур, само по себе является достаточно сложной задачей. Ещё важнее то, что далеко не всегда это бывает действительно интересно. Ведь такие реконструкции, даже будучи безукоризненно верными, но не добавляя ничего принципиально нового к уже известной картине, могут оборачиваться по сути пустой тратой сил, лишь повышающей уровень бессодержательного информационного шума.
Например, раскрытие мотивов, побудивших того или иного человека отказаться от активного участия в жизни в пользу пассивного созерцания, может оказаться очень важным для его биографов, но в любом случае мало что даст исследователю исторических процессов, которые движутся стараниями прежде всего деятельных личностей. С другой стороны, деятели тоже бывают разные. И порой дошедшие до нас личные документы (письма, воспоминания) показывают лишь поразительную степень искажения, с которой люди, влиявшие на жизнь не только своего государства, но и многих соседей, представляли себе действительный смысл тех мероприятий, которые ими инициировались или одобрялись. В связи с чем их реальный вклад в историю оказывался сильно отличающимся от того, на который они рассчитывали, а то и вовсе прямо противоположным этим расчётам. В таких случаях определение субъективных предпосылок событий фактически сводится к уточнению характера иллюзий, стоявших за действиями тех или иных королей, министров, полководцев и проч.
Впрочем, последнее к нашему случаю точно не относится. Даже при том, что жизнь и деяния Ольги, а тем более Мала освещаются в летописи очень избирательно и, как правило, тенденциозно, сопоставление рукописной и фольклорной памяти об их времени убеждает, что мать Святослава и отец Добрыни и Малы были людьми целеустремлёнными, изобретательными и знавшими толк в политическом планировании. Так что, по крайней мере, в какой-то своей части текущая динамика и итоги вооружённого противостояния Древлянии и поляно-варяжского Киева в 945-946 годах были контролируемыми и совпадали с исходными намерениями главных ликвидаторов этого конфликта. И если бы удалось уточнить, что конкретно из предварительных намёток лидеров двух государств стало реальностью, а какие пункты их программ так и остались заоблачными надеждами, то это точно не пополнило бы склад пустопорожних умствований, поскольку Второе древлянское восстание стало исходным пунктом для целого ряда событий и процессов, заметно отразившихся на последующем развитии Руси и её соседей.
Что же до трудностей, то без них постижение неизвестного вообще редко обходится. Тем более это относится к исторической науке и к попыткам что-то узнать о временах вроде первых веков отечественного летописания, когда даже внешняя последовательность упоминаемых эпизодов вырисовывается лишь схематично, с большими пробелами и почти без деталей. Понятно, что при таких исходных данных любые гипотезы о подвижках во внутреннем мире жителей интересующей нас эпохи будут выглядеть заведомо спорными или прямо сомнительными.
Но и признавать вопрос не имеющим ответа на основании только первого знакомства с ним – это тоже мало похоже на научный подход. Чтобы предметно оценить степень решаемости той или иной задачи, для начала стоит хотя бы повнимательнее рассмотреть её условия и имеющиеся ресурсы. После чего, вполне вероятно, удастся наметить какие-то ходы, заслуживающие дополнительного изучения. И только если более детальная проверка всех доступных направлений поиска не даст результата, можно будет заключить, что с данным инструментарием и при текущем состоянии наших общих знаний о заявленной проблеме внести в неё ясность вряд ли получится. Так что сейчас самое время переходить к содержательному анализу субъективной стороны происходившего на Руси в середине Х века, а уже практические попытки покажут, куда и насколько здесь можно продвинуться.
Итак, на наш взгляд, является важным понять, стремился ли кто-нибудь к тому, чтобы состоявшийся после смерти Игоря поляно-варяжский поход в Древлянскую землю, будучи предприятием по форме и контексту откровенно карательным, оказался миротворческим по существу? Или то, чем всё закончилось, не отвечало исходным планам ни одной из сторон?
Начнём с Ольги, чья позиция вполне очевидна.
В самом деле, претендовать на какую бы то ни было политическую роль вдова Игоря могла только при живом сыне. И тем не менее она решается на присутствие Святослава в войске и на поле боя, хотя это при любых сколь угодно тщательных мерах безопасности было связано с риском для его жизни. Так что даже если не знать о взрывоопасном накале антиваряжских настроений по всей славянской федерации и сложной обстановке в самом Киеве, то и тогда одной лишь готовности Ольги поставить на карту жизнь Святослава было бы достаточно, чтобы констатировать сверхзначимость для неё исхода древлянской экспедиции. С учётом же всех дополнительных сведений можно с полной ответственностью утверждать, что политическую жизнь свою и своего сына Ольга связывала с прекращением восстания древлян. Тогда как провал ещё одного древлянского похода и продолжение (а тем более дальнейшее расширение) вооружённой борьбы против варяжского режима сулили ей и её сыну скорую политическую смерть, при которой сохранение или утрата жизни физической уже не имели бы большого значения.
Между тем сам Игорь считал древлян сильными противниками и готовился к вторжению в их землю со всей серьёзностью. А после того, как вторжение обернулось гибелью великокняжеской дружины, с такой оценкой поневоле были вынуждены согласиться даже те, кто никогда не видел древлян в бою и вообще ничего не понимал в военном деле. Разумеется, в Киеве всё равно начинают собирать новое войско, чтобы перед лицом притязаний Мала на федеральную власть быть в состоянии хотя бы защищаться. Но ни о каком пренебрежении нежданной угрозой, ни о каком шапкозакидательстве для преемников Игоря не могло быть и речи.
Так что у Ольги и её советников настрой на скорейшее завершение открытой конфронтации с древлянами по необходимости должен был соседствовать с сомнениями в способности доступных Киеву вооружённых сил одержать не то что быструю, а хотя бы просто уверенную победу. В таких условиях взвешенному политику подобает, как минимум, заколебаться между военным и дипломатическим путями выхода из кризиса, а то и вовсе начать отдавать предпочтение мирным способам урегулирования проблемы, оставляя войну на самый крайний случай. А значит, даже проявляя максимальную сдержанность в формулировках, можно сказать, что в 945-946 годах Ольга с самого начала не исключала в том числе возможность мирного соглашения с древлянами, но, конечно же, при непременном сохранении в Киеве позиций её и её сына.
Гораздо менее отчётливо проступает сквозь толщу веков отношение к собственной капитуляции древлянской стороны. “Повесть временных лет” не прочь представить дело так, будто никакого осознанного и сформулированного отношения вовсе не было, раз уж мятежников постиг полный и безоговорочный разгром. И тем не менее сама же признаёт, что защитники Коростеня сначала “ялись по дань”, то есть отказались от требования независимости и признали себя подданными Киева, а уже затем стали жертвами резни. Так что даже если бы упомянутая в летописи последняя месть Ольги действительно имела место, то, с формальной точки зрения, это всё равно был бы уже не этап войны двух суверенных стран, а силовая акция центрального правительства в одной из провинций державы. То есть чисто внутреннее дело, по отношению к которому термины “мирный договор”, “капитуляция” и т. д. уже не применяются.
Но если отбросить придуманный финал, то в остальном официальная версия не вызывала категорических возражений исследователей. Ведь, с какой стороны ни посмотри, а на поверхности мы видим, что выступление древлян, начавшись в 945 году свержением Игоря и попытками диктовать его семье и подданным свои условия, заканчивается тем, что Коростень всё-таки склоняется перед властью Киева в лице формально Святослава, а фактически Ольги. На фоне такой последовательности событий действительно трудно отделаться от ощущения, что зафиксированная летописью капитулянтская позиция древлян была, строго говоря, не их собственной, а навязанной им позицией победителей.
И всё же существуют хотя и менее очевидные, но не менее веские основания полагать, что по собственно военным показателям положение защитников Коростеня в 946 году вовсе не было безнадёжным, и до холодов они уж точно могли продержаться. А из того, что страна сохраняла технические ресурсы для продолжения войны, в свою очередь, следует, что древлянское руководство сохраняло также возможность для дипломатических маневров. Зная же Мала, не приходится сомневаться, что таковая возможность была использована в полной мере, и роль древлян на переговорах с Ольгой не была пассивной и чисто страдательной. А чтобы понять, в чём конкретно состояла главная идея древлянского сценария разворачивавшейся исторической драмы, рассмотрим приведённую логическую цепочку более подробно.
Итак, пункт первый: что можно сказать о соотношении сил древлян и их противников в 946 году? Если следовать только букве “Повести временных лет”, то ничего определённого. Хотя, по летописным меркам, история этой кампании прямо-таки изобилует подробностями. В то время как сообщения о многих других военных предприятиях даются поистине телеграфным стилем*, в 946 году упоминаются и сбор воинов для похода, и битва, которую открывает Святослав, и имена двух киевских воевод, Свенельда и Асмуда, и, наконец, последующая осада Коростеня с переговорами. И тем не менее во всём довольно пространном рассказе нет ни одной абсолютной цифры или хотя бы относительной оценки исходной численности или потерь противников. Поэтому все заключения о военных аспектах этой кампании поневоле вынуждены строиться на учёте и анализе разнообразных косвенных данных.
При этом, как уже отмечалось, для ныне господствующей точки зрения главной опорой является первый ответ осаждённых коростеньцев Ольге: “Ради ся быхом яли по дань, но хощеши мьщати мужа своего”. Иначе говоря, если бы не боязнь репрессий, то они уже давно и с радостью признали своё поражение. Отсюда сам по себе переход древлян от амбициозных заявлений 945 года к этой заискивающей фразе признаётся достаточным основанием для допущения, что переломным пунктом восстания стало поражение от киевской армии в первом и единственном открытом бою, а жёсткая осада окончательно поставила восставших на грань военной катастрофы и вынудила признать общую победу Киева. Ситуация, однако, предстанет в ином свете, стоит лишь чуть-чуть расширить круг принимаемых во внимание обстоятельств.
В самом деле, как показывает опыт, чтобы у одной из враждующих сторон воинственные настроения бесповоротно уступили место пораженческим, обычно требуется не просто поражение, но разгром, уничтожающий или по меньшей мере в корне подрывающий её боеготовность. Плюс к тому для одержавших победу она не должна быть Пирровой; чтобы поражение 946 года поставило древлян перед реальной перспективой разорения всей их земли, интервентам требовалось сохранить наступательный потенциал и после битвы иметь в строю никак не менее трёх четвертей личного состава. Таких результатов добиваются либо за счет превосходства в военной технике (например, когда обладатели огнестрельного оружия нападают на первобытные народы), либо неожиданными действиями с использованием засад и ловушек (как и поступил Мал с Ингваром Хрёрексоном), либо сокрушительными маневрами на уровне маневра Ганнибала при Каннах. Но применительно к рассматриваемому событию первый и второй варианты напрочь отпадают, а третий, то есть некая ошеломляющая тактическая находка киевских воевод, представляется крайне маловероятным.
То, что за полвека очного знакомства древляне хорошо изучили варягов как противников, исчерпывающе доказывается позорным крахом Игоря. И подавно никакими ударными новинками не могли удивить соседей поляне, чьи военные искания с момента покорения Олегом находились под полным контролем новых хозяев. А вот на тезисе о нереальности каких-либо рабочих тактических находок со стороны Свенельда и Асмуда, пожалуй, стоит остановиться подробнее.
Итак, что касается беззасадного характера действий агрессоров то дело здесь даже не в том, что летопись чётко говорит о ратях, сходящихся глаза в глаза. (Уж если в Киеве не стеснялись целыми разделами вымарывать из государевых анналов историческую память и заменять её откровенной ложью, то что стоило очередному редактору переделать внезапное нападение на неподготовленного противника на более красивую и почётную победу в открытом бою?) Куда важнее то, что для успешного применения заманивающего маневра, засады, западни и т. п., помимо желания, совершенно необходимо заранее и в деталях знать место предстоящего сражения. Но ведь в 946 году именно киевское войско вторглось в чужие пределы, а древляне были вынуждены защищаться. Так что заступить интервентам путь в том или другом месте – это целиком зависело от древлянского командования; всё, что могли Свенельд и Асмуд – это атаковать обнаруженную древлянскую армию или уклониться от столкновения.
Но это рассуждая теоретически. А на практике отсутствие активных действий в виду противника прежде всего собственным воинам даёт повод задуматься о своей готовности сражаться. Для участников мелкого набега, нежданно столкнувшихся с передовой заставой, такая сдержанность является обычной и естественной, а известие о подходе к обороняющимся резервов тем более означает, что пора убираться восвояси. Однако первый поход Святослава совершался не ради заурядного грабежа и даже не ради первичного завоевания соседей – официальным лозунгом киевской верхушки, включая и Ольгу, были месть за Игоря и возврат к покорности взбунтовавшихся данников!
Между тем если всякая интервенция мыслится как демонстрация силы, то интервенция, призванная подтвердить отношения подданства, может считаться провалившейся, если у “хозяина” не оказалось уничтожающего перевеса над вздумавшими проявлять независимость*. Так что для идейных завоевателей любая заминка перед лицом намеченных в жертву, любая пауза, выходящая за пределы абсолютно необходимого для подготовки атаки, начинает выглядеть как нерешительность. А это, в свою очередь, практически всегда расхолаживает собственный наступательный пыл и, напротив, укрепляет решимость защитников родной земли стоять до последнего. В связи с чем для армии вторжения любые проявления неуверенности и даже намёки на неуверенность в своих силах способны лишь осложнить, а то и полностью сорвать всю затею. Поэтому, имея дело с теми, кто мыслит себя покорителями и тем более карателями, следует ожидать, что они сами будут искать сражения и примут бой там, где противник его предложит, хотя бы даже позиция не сулила им особых выгод. Ровно из этого исходили в своей тактике М. И. Голенищев-Кутузов в 1812 году, П. А. Романов в 1709 году, Дмитрий Иванович в. к. Московский и Владимирский в 1378 и 1380 годах, Александр Ярославич кн. Переяславский и Новгородский в 1242 году. И, как показал опыт, оказались правы (хотя относительно настроя Бегича и Мамая сомнения всё-таки были).
Последних примеров Мал, само собой, знать не мог, но общий принцип и без них вполне очевиден: если обороняющиеся на своей территории в известных пределах могут выбирать место и время для боя, то вторгшиеся в чужую страну буквально обязываются атаковать силы национального сопротивления там и тогда, где и когда последние сочтут удобным себя обнаружить. В силу этого принципа предводители поляно-варяжского войска, официально объявив в 946 году целью похода покарание “древлянских бунтовщиков”, лишали себя пространства для маневра и оказывались поистине обречены, встретив неприятеля, действовать быстро и без колебаний до чьего-то окончательного поражения. Тем более что в конкретной обстановке любая отсрочка с усмирением древлян грозила, помимо всего прочего, дать дополнительный импульс выступлениям против власти Киева в других славянских землях. Вот и выходит, что если кто и мог – заблаговременно, с учётом особенностей местности – подготовить на выбранном поле боя какую-то ловушку или засаду, то это были сами древляне, а никак не киевские интервенты.
Есть что возразить и против допущения о некоем ударном экспромте, родившемся прямо на поле боя и принесшем киевлянам победу с небольшими потерями у себя и тяжелейшими у противника. Во-первых, сногсшибательные маневры удавались обычно в случаях, когда предводитель одной из сторон далеко превосходил своего соперника в тактическом мастерстве (признанный мастер маневра Наполеон, сколько ни пытался, так ни разу и не сумел поймать в тактическую ловушку полководца Кутузова). Но в 946 году во главе древлян стоял представитель династии Нискиничей, победитель Ингвара Хрёрексона, отец и учитель замечательного тактика и стратега Добрыни, нанесшего итоговое поражение Свенельду и руководимым им силам. Само по себе это, конечно, не доказывает, что Мал как воевода был на голову выше того же Свенельда, но и оснований для противоположного утверждения уж точно не даёт.
Во-вторых, в доогнестрельную эпоху главным творцом большинства сокрушительных маневров была конница. Тогда как главную боевую силу славян до конца Х века составляла пехота, и точно так же пехотинцами – пусть и морскими и высококвалифицированными – были варяги. Так что научиться боевому применению кавалерии друг у друга Свенельд и Асмуд не могли, а устойчивые мирные контакты и обмен ратным опытом с кочевниками начались только в пору зрелости Святослава, то есть заведомо позже 946 года. А значит, судьбу обсуждаемого боя предстояло решать именно “царице полей”, и застать древлян врасплох неким гипотетическим маневром киевские воеводы должны были, опираясь лишь на малоподвижные пешие отряды. Что вдвойне непросто.
И ещё один немаловажный момент: как уже отмечалось, о жертвах первого боя Святослава в “Повести временных лет” нет ни слова. Хотя всего несколькими строками выше гордо сообщается, что на тризне по Игорю киевской делегации удалось перебить 5000 древлян. На фоне подобного соседства невольно напрашивается предположение, что в 946 году с этой точки зрения и говорить-то было не о чем. А умолчав о том, сколько человек полегло на поле боя и досталось в плен победителям, летопись уже открытым текстом сообщает, что разбитые древляне “побѣгоша”, причём бежавших и “затворившихся”, в частности, в Коростене оказалось вполне достаточно, чтобы успешно обороняться “лѣто”. Иными словами, даже если принять, что Свенельд и Асмуд сумели так или иначе нейтрализовать все трудности и обратить ситуацию против древлян, то и тогда получается, что последние, со своей стороны, успели заметить опасность и выйти из сражения до того, как оно превратилось в одностороннее побоище. (Ну как тут не вспомнить, что по французским сводкам русская армия тоже бежала от Смоленска и Бородина, хотя сами участники войны отлично сознавали разницу между бегством и планомерным отступлением, при котором противнику не остаётся не то что брошенного оружия и боеприпасов, но даже разбитой повозки.)