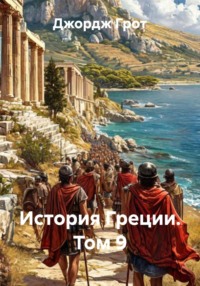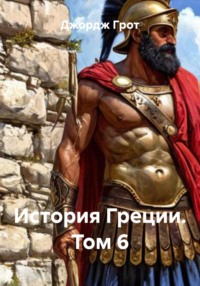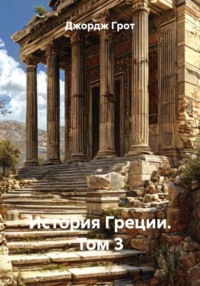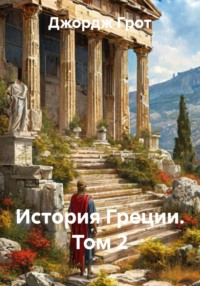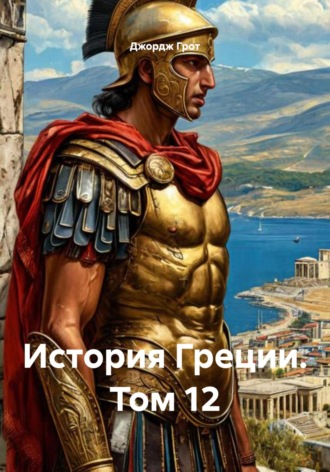
Полная версия
История Греции. Том 12
Александр начал штурм, отвергнув предложение милетца Главкиппа о нейтралитете. Флот Никанора заблокировал гавань, а македонцы проломили стены и ворвались в город. Защитники бились отчаянно, но многие погибли, а уцелевшие пытались спастись вплавь. 300 греческих наёмников укрепились на скале у входа в гавань, и Александр, оценив их решимость, принял их в свои войска. [216] Милет получил свободу, а остальные пленники были проданы в рабство.
Персидский флот с мыса Микале, не сумев помочь Милету, отошёл к Галикарнасу. Александр же распустил свой флот, слишком дорогой и слабый для открытого боя, решив действовать на суше, лишая персов опорных пунктов. [217] К этому времени северное побережье Малой Азии уже подчинилось ему, и он двинулся на юг, в Карию.
В Карии его встретила Ада, изгнанная своим братом Пиксодаром, которая отдала ему город Алинду и усыновила его. Пиксодар же, связанный с персами через зятя Оронтобата, готовил Галикарнас к обороне. [218] Этот город, усиленный Мемноном, с глубоким рвом [219] и мощными укреплениями, [220] стал серьёзным испытанием. Там находились персидский флот, наёмники под командованием афинянина Эфиальта и две цитадели. Осада Галикарнаса стала самой трудной операцией Александра.
Его первые попытки, направленные против ворот на севере или северо-востоке города, которые вели в сторону Миласы, были прерваны частыми вылазками и обстрелами с метательных орудий на стенах. После нескольких дней, потраченных без особого успеха, он перешел с большей частью своей армии на западную сторону города, к удаленной части выступающего мыса, на котором располагались Галикарнас и Миунд (последний дальше к западу). Демонстрируя активность на этом участке Галикарнаса, он одновременно предпринял ночную атаку на Миун [стр. 96] д, но был вынужден отступить после нескольких часов бесплодных усилий. Затем он сосредоточился на осаде Галикарнаса. Его солдаты, защищенные от снарядов передвижными навесами (называемыми «Черепахами»), постепенно засыпали широкий и глубокий ров вокруг города, чтобы открыть ровную дорогу для его осадных орудий (деревянных башен) к самым стенам. Когда орудия были подведены вплотную, работа по разрушению успешно продвигалась; несмотря на яростные вылазки гарнизона, македонцы отражали их, хотя и не без потерь и трудностей. Вскоре удары таранов опрокинули две башни городской стены вместе с двумя промежуточными участками стены; третья башня начала рушиться. Осажденные занялись возведением внутренней кирпичной стены, чтобы прикрыть образовавшийся пролом, и деревянной башни высотой в 150 футов для метания снарядов. [221]
Похоже, Александр ждал полного разрушения третьей башни, прежде чем считать брешь достаточно широкой для штурма; но атака началась преждевременно из-за двух отчаянных солдат из отряда Пердикки. [222] Эти люди, опьяненные вином, в одиночку бросились штурмовать Миласские ворота и перебили первых защитников, вышедших им навстречу, пока, наконец, с обеих сторон не подошли подкрепления, и завязался общий бой на небольшом расстоянии от стены. В конце концов македонцы одержали победу и оттеснили осажденных обратно в город. Возникшая неразбериха была такова, что город можно было бы взять штурмом, если бы к этому заранее подготовились. Третья башня вскоре рухнула; однако, прежде чем это произошло, осажденные уже завершили строительство внутреннего полумесяца, против которого на следующий день Александр направил свои орудия. Однако на этой передовой позиции, находясь, по сути, внутри круга городской стены, македонцы подвергались обстрелу не только с фронта, но и с еще уцелевших башен по бокам. Более того, ночью была предпринята новая вылазка [стр. 97] с такой яростью, что часть плетеных покрытий осадных орудий и даже основная деревянная конструкция одного из них были сожжены. Лишь с большим трудом офицеры караула Филота и Гелланик смогли спасти остальное; и только когда сам Александр появился с подкреплениями, осажденные были окончательно отброшены. [223]
Хотя его войска одержали победу в этих последовательных стычках, он не мог забрать своих павших, лежавших у самых стен, не попросив перемирия для их погребения. Такая просьба обычно считалась признанием поражения; тем не менее Александр запросил перемирие, которое было предоставлено Мемноном, несмотря на возражения Эфиальта. [224]
После нескольких дней перерыва, необходимого для погребения павших и починки орудий, Александр возобновил атаку на полумесяц под своим личным руководством. Среди защитников крепости росло убеждение, что она долго не продержится. Особенно Эфиальт, решивший не пережить падения города и видя, что единственный шанс спасения заключается в уничтожении осадных орудий, получил от Мемнона разрешение возглавить последнюю отчаянную вылазку. [225] Он сразу же взял с собой 2000 отборных воинов: половину для боя с врагом, половину с факелами, чтобы поджечь орудия. На рассвете все ворота внезапно и одновременно распахнулись [стр. 98], и отряды вылазки устремились из каждого против осаждающих, поддерживаемые частым обстрелом метательных орудий изнутри. Эфиальт со своим отрядом, двигаясь прямо к македонцам, охранявшим главный пункт атаки, яростно напал на них, в то время как факельщики пытались поджечь орудия. Сам он, выделявшийся не только доблестью, но и физической силой, шел в первых рядах и был так хорошо поддержан мужеством и стройностью своих солдат, наступавших глубокой колонной, что некоторое время имел преимущество. Несколько орудий были успешно подожжены, а передовой отряд македонских войск, состоявший из молодых солдат, дрогнул и побежал. Их удалось собрать отчасти усилиями Александра, но в основном благодаря ветеранам македонской армии, участникам всех кампаний Филиппа, которые, будучи освобождены от ночных караулов, располагались в тылу. Эти ветераны, среди которых особенно выделялся некий Атаррий, упрекая своих товарищей в трусости, [226] построились в привычную фалангу и таким образом не только выдержали, но и отбросили атаку победоносного врага. Эфиальт, сражавшийся в первых рядах, пал, остальные были отброшены к городу, а горящие орудия удалось спасти, хотя и с некоторыми повреждениями.
В это же время упорный бой разгорелся у ворот, называемых Трипилон, где осажденные предприняли еще одну вылазку по узкому мосту, перекинутому через ров. Здесь македонцами командовал Птолемей (не сын Лага), один из телохранителей царя. Он и еще два-три видных офицера погибли в ожесточенной схватке, но в конце концов вылазка была отбита, и нападавшие отступили в город. [227] Потери осажденных при отступлении под натиском македонцев были тяжелыми.
Этой последней неудачной попыткой оборонительные силы Галикарна [стр. 99] са были сломлены. Мемнон и Оронтобат, убедившись, что дальнейшая оборона города невозможна, воспользовались ночью, чтобы поджечь свои деревянные метательные орудия и башни, а также склады оружия и дома у внешней стены, после чего вывели войска, припасы и жителей частично в цитадель под названием Салмакис, частично на соседний островок Арконнес, частично на остров Кос. [228] Хотя город был таким образом эвакуирован, они все же оставили хорошо снабженные гарнизоны в двух его цитаделях. Пожар, раздуваемый сильным ветром, быстро распространился. Его удалось потушить только по приказу Александра, когда он вступил в город и приказал казнить всех, кого застали с факелами. Он распорядился пощадить галикарнасцев, найденных в домах, но сам город велел разрушить. Всю Карию он отдал Аде в качестве княжества, разумеется, под условием выплаты дани. Поскольку цитадели, все еще удерживаемые врагом, были достаточно сильны и требовали длительной осады, он не счел нужным лично оставаться для их взятия, но, окружив их стеной блокады, оставил Птолемея с 3000 воинов для охраны. [229]
Закончив осаду Галикарнаса, Александр отправил свои осадные орудия обратно в Траллы, приказав Пармениону с большей частью кавалерии, союзной пехотой и обозами следовать в Сарды.
Последующие зимние месяцы он посвятил завоеванию Ликии, Памфилии и Писидии. Все это южное побережье Малой Азии гористо; хребет Тавра подходит почти к самому морю, оставляя мало или совсем не оставляя равнины. Несмотря на мощные укрепления, такой ужас наводило оружие Александра, что все ликийские города – Гипарна, Телмисс, Пинара, Ксанф, Патара и тридцать других – сдались ему без боя. [230] Лишь один из них, называемый Мармарейс, сопротивлялся до последнего. [231] Достигнув области под названием Милиада, фригийской границы Ликии, Александр [стр. 100] принял капитуляцию греческого приморского города Фаселиды. Он помог фаселитам разрушить горный форт, построенный и занятый соседними писидийскими горцами против них, и публично воздал почести гробнице их умершего земляка, ритора Теодекта. [232]
После этой короткой остановки в Фаселидах Александр направился в Пергу в Памфилии. Обычная горная дорога, по которой он отправил большую часть своей армии, была настолько трудной, что потребовала выравнивания фракийскими легкими войсками, посланными вперед для этой цели. Но сам царь с отборным отрядом выбрал еще более трудный путь у подножия гор, вдоль берега моря, называемый Климакс. Когда ветер дул с юга, этот путь покрывался такой глубиной воды, что становился непроходимым; некоторое время перед тем, как он достиг этого места, ветер дул сильно с юга – но, когда он приблизился, особое провидение богов (как он и его друзья считали) принесло перемену на север, так что море отступило и оставило проход, хотя солдаты шли по пояс в воде. [233] Из Перги он двинулся дальше в Сиду, получив по пути послов из Аспенда, которые предложили сдать их город, но просили не вводить гарнизон; им позволили откупиться, пообещав пятьдесят талантов деньгами, а также лошадей, которых они выращивали в качестве дани персидскому царю. Оставив гарнизон в Сиде, он двинулся дальше к укрепленному месту под названием Силлий, защищаемому храбрыми местными жителями с отрядом наемников. Эти люди держались стойко и даже отразили первую атаку; Александр не мог задержаться для повторного штурма, так как получил известие, что аспендийцы отказались выполнять наложенные условия и привели свой город в оборонительное состояние. Быстро вернувшись, он принудил их к покорности, а затем отступил обратно в Пергу; оттуда он направил свой путь в Великую Фригию, [234] через труднодоступные горы и почти непокорное население Писидии.
[стр. 101] После пребывания в Писидийских горах, достаточного для взятия нескольких городов или укрепленных пунктов, Александр двинулся на север во Фригию, пройдя мимо соленого озера Асканий к крутой и неприступной крепости Келены, где стоял гарнизон из 1000 карийцев и 100 греческих наемников. Эти люди, не имея надежды на помощь от персов, предложили сдать крепость, если помощь не придет в течение шестидесяти дней. [235] Александр принял предложение, пробыл десять дней в Келенах и оставил там Антигона (впоследствии одного из самых могущественных его преемников) сатрапом Фригии с 1500 воинов. Затем он двинулся на север к Гордию на реке Сангарий, где должен был встретиться с Парменионом и где завершилась его зимняя кампания. [236]
Приложение. О ДЛИНЕ МАКЕДОНСКОЙ САРИССЫ ИЛИ ПИКИ.Приведенные здесь данные о длине сариссы, которую носил фалангит, взяты у Полибия, чье описание во всех отношениях ясно и последовательно. «Сарисса (говорит он) имеет шестнадцать локтей в длину согласно первоначальной теории; и четырнадцать локтей, как адаптированная к реальной практике» – τὸ δὲ τῶν σαρισσῶν μέγεθός ἐστι, κατὰ μὲν τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν, ἑκκαίδεκα πηχῶν, κατὰ δὲ τὴν ἁρμογὴν τὴν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, δεκατεσσάρων. Τούτων δὲ τοὺς τέσσαρας ἀφαιρεῖ τὸ μεταξὺ ταῖν χεροῖν διάστημα, καὶ τὸ κατόπιν σήκωμα τῆς προβολῆς (xviii. 12).
Различие, указанное здесь Полибием между теоретической и практической длиной, вероятно, можно понять так, что фалангиты на тренировках использовали пики большей длины, а в бою – меньшей: подобно тому, как римские солдаты на учениях применяли оружие тяжелее, чем в сражениях.
[стр. 102] Из более поздних тактических писателей Лев (Tact. vi. 39) и Константин Багрянородный повторяют двойное измерение сариссы, данное Полибием. Арриан (Tact. c. 12) и Полиэн (ii. 29, 2) указывают ее длину в шестнадцать локтей – Элиан (Tact. c. 14) дает четырнадцать локтей. Все эти авторы следуют либо Полибию, либо какому-то другому источнику, согласующемуся с ним. Никто из них не противоречит ему, хотя никто не излагает дело так ясно, как он.
Господа Рюстов и Кёхли (Gesch. des Griech. Kriegswesens, p. 238), авторы лучшего из известных мне трудов по древним военным вопросам, отвергают авторитет Полибия в данном виде. Они утверждают, что текст должен быть искажен, и что Полибий на самом деле имел в виду, что сарисса была шестнадцать футов в длину – а не шестнадцать локтей. Я не могу согласиться с их мнением и не считаю их критику Полибия справедливой.
Во-первых, они рассуждают так, будто Полибий сказал, что сарисса в реальном бою была шестнадцать локтей в длину. Рассчитав вес такого оружия исходя из необходимой толщины древка, они заявляют, что оно было бы неуправляемым. Но Полибий дает реальную длину всего в четырнадцать локтей: очень существенная разница. Если принять гипотезу этих авторов – что искажение текста заставило нас читать «локти» там, где должно было быть «футы» – то получится, что длина сариссы по Полибию составляла четырнадцать футов, а не шестнадцать. Но такая длина недостаточна, чтобы оправдать многочисленные упоминания о ее огромной длине.
Далее, они приписывают Полибию противоречие, говоря, что римский солдат занимал пространство в три фута, равное пространству македонского солдата – и в то же время в бою против него было два македонских солдата и десять пик (xviii. 13). Но здесь нет никакого противоречия: Полибий прямо говорит, что римлянин, хотя и занимал три фута, когда легион стоял в строю, в бою требовал расширения рядов и увеличенного интервала до трех футов позади и по бокам (χάλασμα καὶ διάστασιν ἀλλήλων ἔχειν δεήσει τοὺς ἄνδρας ἐλάχιστον τρεῖς πόδας κατ᾽ ἐπιστάτην καὶ παραστάτην), чтобы обеспечить свободу действий для меча и щита. Поэтому совершенно верно, что каждый римский солдат, идущий в атаку на фалангу, занимал столько же места, сколько два фалангита, и имел дело с десятью пиками.
Кроме того, невозможно предположить, что Полибий, говоря о локтях, на самом деле имел в виду футы; потому что (гл. 12) он говорит о трех футах как интервале между рядами в шеренге, и эти три фута явно равны двум локтям. Его расчеты не сойдутся, если вместо локтей подставить футы.
Таким образом, мы должны принять утверждение Полибия как есть: что пика фалангита была четырнадцать локтей или двадцать один фут в длину. У Полибия были все возможности быть хорошо осведомленным в этом вопросе. Ему было за тридцать во время последней войны римлян против македонского царя Персея, в которой он сам участвовал. Он был близко знаком со Сципионом, сыном Павла Эмилия, победившего при Пидне. Наконец, он уделял большое внимание тактике и даже написал отдельный труд на эту тему.
Можно было бы предположить, что утверждение Полибия, хотя и верное для его времени, не соответствовало эпохе Филиппа и Александра. Но нет ничего, что поддерживало бы такое подозрение – которое, более того, прямо отвергается Рюстовом и Кёхли.
Без сомнения, двадцать один фут – это огромная длина, неуправляемая без должной подготовки и неудобная для любых маневров. Но именно так всегда описывают пику фалангита. Так, Ливий (XXXI, 39) пишет: «Erant pleraque silvestria circa, incommoda phalangi maximè Macedonum: quæ, nisi ubi prælongis hastis velut vallum ante clypeos objecit (quod ut fiat, libero campo opus est) nullius admodum usus est» («Большая часть местности вокруг была лесистой, что крайне неудобно для македонской фаланги, которая бесполезна, если не может выставить перед щитами частокол из чрезвычайно длинных копий, а для этого нужна открытая равнина»). Сравните также Ливий (XLIV, 40, 41), где среди прочих указаний на огромную длину пики говорится: «Si carptim aggrediendo, circumagere immobilem longitudine et gravitate hastam cogas, confusâ strue implicatur» («Если же атаковать по частям, заставляя врага поворачивать неподвижное из-за длины и тяжести копье, то оно запутается в общей свалке»), а также (XXXIII, 8, 9).
Ксенофонт сообщает, что десять тысяч греков во время отступления вынуждены были пробиваться через земли халибов, вооруженных пиками длиной в пятнадцать локтей и короткими мечами; он не упоминает щитов, но они носили поножи и шлемы (Анабасис, IV, 7, 15). Это даже больше, чем длина македонской пики по Полибию. Мосинойки защищали свою цитадель «копьями настолько длинными и толстыми, что человек едва мог их нести» (Анабасис, V, 4, 25). В Илиаде, когда троянцы теснят греков к кораблям и пытаются их поджечь, Аякс описывается стоящим на корме и отгоняющим нападающих копьем для морского боя длиной в двадцать два локтя [22] или тридцать три фута [33] (ξυστὸν ναύμαχον ἐν παλάμῃσιν – δυωκαιεικοσίπηχυ, Илиада, XV, 678). Копье Гектора имеет длину в десять или одиннадцать локтей и предназначено для метания (Илиада, VI, 319; VIII, 494) – до сих пор неясно, следует ли читать ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ или ἔγχος ἔχεν δεκάπηχυ.
Швейцарская пехота и немецкие ландскнехты XVI века во многом воспроизводили македонскую фалангу: сомкнутый строй, глубокие шеренги, длинные пики, причем первые три или четыре ряда состояли из самых сильных и храбрых воинов – либо офицеров, либо отборных солдат, получавших двойное жалование. Длина и непреодолимая стена их пик позволяла им отражать атаки тяжелой кавалерии или латников. Их невозможно было остановить в лобовой атаке, если только противник не находил способа прорваться сквозь строй копий, что иногда, хотя и редко, удавалось. Их главная уверенность заключалась в длине пики – Макиавелли пишет о них (Ritratti dell’ Alamagna, Opere t. IV, p. 159; и Dell’ Arte della Guerra, p. 232–236), [p. 104]: «Dicono tenere tale ordine, che non é possibile entrare tra loro, né accostarseli, quanto é la picca lunga. Sono ottime genti in campagna, à far giornata: ma per espugnare terra non vagliono, e poco nel difenderlo: ed universalmente, dove non possano tenere l’ ordine loro della milizia, non vagliono» («Они утверждают, что их строй настолько плотен, что невозможно ни прорваться внутрь, ни приблизиться к ним из-за длины пик. Они превосходны в полевых сражениях, но не годятся для штурма городов и мало полезны при их обороне; и вообще, везде, где они не могут сохранить свой боевой порядок, они бесполезны»).
Глава XCIII. ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ АЗИАТСКИЕ КАМПАНИИ АЛЕКСАНДРА – БИТВА ПРИ ИССЕ – ОСАДА ТИРА.
Около февраля или марта 333 г. до н. э. Александр достиг Гордия, где, по-видимому, задержался на некоторое время, давая отдых войскам, прошедшим с ним через Писидию, – отдых, несомненно, необходимый. В Гордии он совершил памятный подвиг, известный как «разрубание Гордиева узла». В цитадели хранилась древняя телега грубой работы, которая, согласно легенде, некогда принадлежала крестьянину Гордию и его сыну Мидасу – первым царям Фригии, избранным народом по воле богов. Ярмо этой телеги было привязано к дышлу верёвкой (сплетённой из волокон коры кизила), настолько перекрученной и запутанной, что она образовывала невероятно сложный узел, который никто не мог развязать. Оракул предрёк, что тот, кто сумеет его развязать, станет владыкой Азии. Когда Александр поднялся посмотреть на эту древнюю реликвию, окружающая толпа – и фригийцы, и македоняне – с нетерпением ожидала, что победитель при Гранике и Галикарнассе справится с узлом и обретёт обещанную империю. Однако, осмотрев узел, Александр, как и все до него, оказался в замешательстве, пока в порыве нетерпения не выхватил меч и не разрубил верёвку надвое. Все восприняли это как решение задачи, тем самым утвердив его право на владычество в Азии; и эта вера была [с. 105] подтверждена богами грозой с громом и молниями в ту же ночь. [237]
В Гордии к Александру прибыли послы из Афин с просьбой освободить афинских пленников, захваченных при Гранике, которые теперь работали закованными в цепях на македонских рудниках. Однако он отказал в их просьбе, отложив решение до более удобного времени. Зная, что греки держатся за него лишь из страха и что при первой возможности значительная часть их перейдёт на сторону персов, он не счёл благоразумным ослаблять контроль над их поведением. [238]
Такая возможность теперь казалась вполне вероятной. Мемнон, лишённый возможности действовать на суше после потери Галикарнасса, занимался делами на островах Эгейского моря (в первой половине 333 г. до н. э.), намереваясь перенести войну в Грецию и Македонию. Обладая широкими полномочиями, он располагал большим финикийским флотом и значительным отрядом греческих наёмников, а также поддержкой своего племянника Фарнабаза и перса Автофрадата. Захватив важный остров Хиос благодаря содействию части его жителей, он затем высадился на Лесбосе, где четыре из пяти городов – из страха или симпатий – перешли на его сторону, в то время как Митилена, крупнейший из них, уже занятый македонским гарнизоном, оказала сопротивление. Мемнон высадил войска и начал осаду города с моря и суши, окружив его двойной частокольной стеной от моря до моря. В разгар этих действий он скончался от болезни, но его племянник Фарнабаз, которому он временно передал командование до решения Дария, энергично продолжил операцию и добился капитуляции города. Было условлено, что гарнизон, введённый Александром, будет выведен; колонна, свидетельствующая о союзе с ним, будет разрушена; митиленцы станут союзниками Дария на условиях старого договора, известного как Анталкидов мир; а изгнанные граждане будут возвращены с возвращением половины их имущества. Однако Фарнабаз, едва вступив в город, [с. 106] немедленно нарушил соглашение. Он не только вымогал деньги, но и ввёл гарнизон под командованием Ликомеда, а также поставил тираном вернувшегося изгнанника Диогена. [239] Подобное вероломство плохо способствовало дальнейшему распространению персидского влияния в Греции.
Если бы персидский флот проявил такую же активность годом ранее, армия Александра никогда не смогла бы высадиться в Азии. Тем не менее, захват Хиоса и Лесбоса, пусть и запоздалый, был крайне важен как обещание будущих успехов. Некоторые из Кикладских островов прислали предложения о присоединении к персидскому делу; флот ожидали у Эвбеи, а спартанцы начали рассчитывать на помощь для антимакедонского выступления. [240] Однако все эти надежды рухнули из-за неожиданной смерти Мемнона.
Дело было не только в превосходных способностях Мемнона, но и в его устоявшейся репутации среди греков и персов, что сделало его смерть роковым ударом для интересов Дария. У персов были и другие греческие командиры – храбрые и способные, вероятно, даже не уступавшие Мемнону в умении руководить. Но никто из них не обладал таким опытом командования среди восточных народов – никто не заслужил такого доверия Дария, чтобы получить полное руководство операциями и защиту от придворных интриг. Хотя Александр к этому времени овладел Малой Азией, у персов ещё оставались значительные ресурсы, которые при грамотном использовании могли защитить оставшиеся земли и даже серьёзно угрожать ему на его территории. Но со смертью Мемнона исчез последний шанс использовать эти ресурсы с умом и энергией. Истинную цену этой потери лучше осознавал проницательный противник, с которым он сражался, чем слабый властитель, которому он служил. Смерть Мемнона снизила эффективность персов на море, что дало Александру возможность реорганизовать македонский флот [241] и использовать все сухопутные силы для дальнейших завоеваний внутри материка. [242]
[с. 107] Если Александр и выиграл от смерти этого выдающегося родосца в плане своих операций, то ещё больше он выиграл от смены политики, к которой это событие подтолкнуло Дария. Персидский царь решил отказаться от оборонительной стратегии Мемнона и перейти в наступление против македонян на суше. Его войска, уже собранные из разных частей империи, частично прибыли и продолжали подтягиваться. [243] Их число росло, пока не достигло огромной и многочисленной армии, общая численность которой, по некоторым данным, составляла 600 000 человек; по другим – 400 000 пехоты и 100 000 кавалерии. Вид этого пёстрого и внушительного множества воинов, в самом разнообразном вооружении, одежде и говорящих на разных языках, вселил в Дария уверенность; тем более что среди них было от 20 000 до 30 000 греческих наёмников. Персидские царедворцы, сами воодушевлённые и полные надежд, подогревали и преувеличивали эти чувства в самом царе, который окончательно уверился, что враги не смогут ему противостоять. Контингенты из Согдианы, Бактрии и Индии ещё не успели прибыть, но большинство войск от Персидского залива до Каспийского моря уже подошли – персы, мидийцы, армяне, дербики, барканийцы, гирканийцы, каддаки и другие; всех их, собранных на равнинах Месопотамии, якобы пересчитали, подобно войскам Ксеркса на равнине Дориска, отгородив пространство, вмещавшее ровно 10 000 человек, и пропуская через него солдат поочерёдно. [244] Ни сам Дарий, ни его окружение никогда прежде не видели столь подавляющего проявления мощи Персидской империи. Для восточного взгляда, неспособного оценить истинные условия военного превосходства и привыкшего лишь к грубому подсчёту чисел и физической силы, царь, ведущий такую армию, казался земным богом, готовым растоптать всех на своём пути – точно так же, как большинство греков когда-то представляли себе Ксеркса, [245] а тем более сам Ксеркс – себя самого, за полтора века до этого. Поскольку всё это обернулось роковой ошибкой, описание этих чувств у Курция и Диодора часто воспринимается как беспочвенная риторика. Однако на самом деле это естественная иллюзия неискушённых людей, противостоящих обученному и научному суждению.