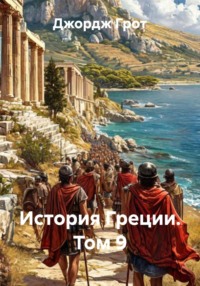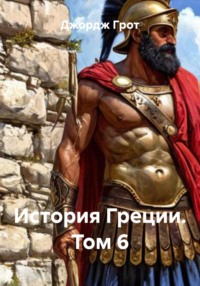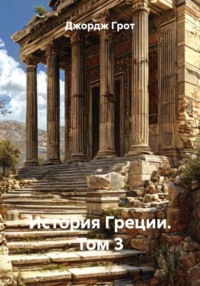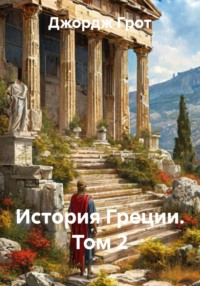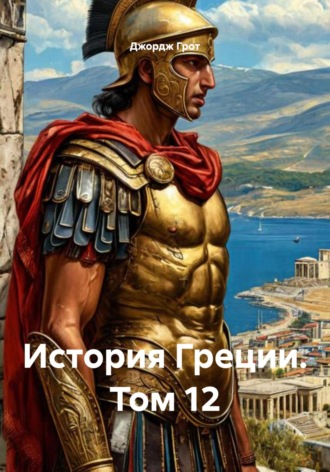
Полная версия
История Греции. Том 12
Но если такое было убеждение восточных народов, оно не находило отклика в душе просвещённого афинянина. Среди греков, находившихся при Дарии, был афинский изгнанник Харидем, который, навлекая на себя непримиримую вражду Александра, был вынужден покинуть Афины после македонского захвата Фив и бежал вместе с Эфиальтом к персам. Дарий, упоённый кажущимся всемогуществом своей армии на смотре и слыша вокруг лишь единодушное одобрение царедворцев, спросил мнение Харидема, вполне ожидая услышать подтверждение своих надежд. Но поскольку судьба Харидема теперь полностью зависела от успеха Дария, он не стал скрывать свои убеждения, какими бы неприятными они ни были, в момент, когда ещё оставалась возможность принести пользу. Он ответил (с той же откровенностью, с которой Демарат некогда говорил Ксерксу), что огромное множество воинов перед ними не способно противостоять сравнительно небольшому числу захватчиков. Он посоветовал Дарию не полагаться на азиатов, а использовать свои несметные богатства для найма дополнительной армии греческих наёмников. Он предложил свои собственные услуги – либо в качестве советника, либо командира. Для Дария его слова оказались и неожиданными, и оскорбительными; персидских царедворцев они привели в негодование. Одурманенные зрелищем собранных войск, они сочли сочетанием оскорбления и абсурда утверждение, что азиаты ничтожны по сравнению с македонянами, и что царь может защитить свою империю только с помощью греков. Они объявили Харидема предателем, желающим завоевать доверие царя, чтобы предать его Александру. Дарий, задетый этим ответом и ещё более раздражённый криками придворных, собственноручно схватил Харидема за пояс и приказал страже казнить его. «Вы слишком поздно поймёте (воскликнул афинянин), что я говорил правду. Мой мститель уже близок». [246]
Переполненный уверенностью в успехе и славе, Дарий решил лично возглавить армию и выступить, чтобы сокрушить Александра. С этого момента его сухопутные силы стали действительно важной и наступательной мощью, с которой он сам намеревался действовать. Здесь мы видим его явный отказ от планов Мемнона – переломный момент его будущей судьбы. И он отказался от них именно в тот момент, когда их можно было осуществить наиболее безопасно и полностью. Ибо во время битвы при Гранике, когда Мемнон впервые предложил свою стратегию, оборонительная часть её была не так проста, поскольку у персов не было сильной позиции. Но теперь, весной 333 г. до н. э., у них была линия обороны, какой они только могли желать; преимущества, почти не имеющие аналогов. Во-первых, это была линия Таврских гор, преграждавшая Александру путь в Киликию; линия обороны (как будет видно далее) почти неприступная. Далее, даже если бы Александру удалось прорвать эту линию и завоевать Киликию, оставалась узкая дорога между горами Амана и морем, называемая Аманийскими Воротами, а также Воротами Киликии и Ассирии – и после этого перевалы через сам Аманус – все они были жизненно важны для Александра и могли быть удержаны при должной подготовке против самой сильной атаки. Лучшего случая для осуществления оборонительной части плана Мемнона нельзя было представить; и он, несомненно, рассчитывал, что такие преимущества не будут упущены.
Роковая перемена политики персидского царя проявилась в приказе, который он отдал флоту после [с. 110] получения известия о смерти Мемнона. Подтвердив назначение Фарнабаза (временно назначенного умирающим Мемноном) адмиралом, он одновременно отправил Тимонда (сына Ментора и племянника Мемнона), чтобы забрать с флота греческих наёмников, служивших на кораблях, и включить их в основную персидскую армию. [247] Это было ясным свидетельством того, что главный удар наступательных операций отныне переносился с моря на сушу.
Важно отметить такой отказ от стратегии со стороны Дария как критический переломный момент в греко-персидском противостоянии – поскольку Арриан и другие историки упускают это из виду, сосредотачиваясь лишь на второстепенных аспектах. Например, они осуждают неосмотрительность Дария, который решил дать бой Александру в тесном пространстве близ Исса, вместо того чтобы ждать его на обширных равнинах за Аманскими горами. Безусловно, если допустить, что генеральное сражение было неизбежно, этот шаг увеличил шансы македонян. Однако это был шаг, не повлиявший на существенный исход событий, поскольку персидская армия Дария едва ли была более пригодна для битвы на открытой равнине, что впоследствии подтвердилось при Арбелах. Истинная неосмотрительность – игнорирование предостережений Мемнона – заключалась в самом решении дать сражение. Горы и ущелья были настоящей силой персов, их следовало удерживать как оборонительные рубежи против вторжения. Если Дарий и ошибся, то не столько в отказе от равнины Сохи, сколько в изначальном выборе этой равнины для генерального сражения вместо укрепленных позиций, которые предоставляли Тавр и Аман.
Повествование Арриана, хотя, возможно, и точное в деталях, не только кратко и неполно, но и зачастую упускает из виду действительно важные и решающие моменты.
Остановившись в Гордии, Александр встретился с теми недавно женившимися македонянами, которых он отправил на зиму домой и которые теперь вернулись с подкреплениями численностью 3000 пехотинцев и 300 всадников, а также 200 фессалийских и 150 элейских кавалеристов. [248] Как только его войска достаточно отдохнули, он выступил (вероятно, во второй половине мая) в направлении Пафлагонии и Каппадокии. В Анкире его встретила делегация пафлагонцев, которые подчинились его воле, лишь умоляя не вести армию в их земли. Приняв эти условия, он поставил их под управление Каласа, своего сатрапа Геллеспонтской Фригии. Продвигаясь дальше, он подчинил всю Каппадокию, вплоть до значительной территории за Галисом, оставив там сатрапом Сабиктаса. [249]
Обеспечив безопасность в тылу, Александр двинулся на юг к Таврским горам. Он достиг пункта, называемого Лагерем Кира, у северного подножия этой горы, близ перевала Таври-Пилы, или Киликийских Ворот, которые служили основным путем сообщения между Каппадокией на севере и Киликией на юге этой великой горной цепи. Длинная дорога, поднимаясь и спускаясь, была в основном узкой, извилистой и неровной, иногда проходя между двумя крутыми и высокими склонами; и ближе к южному концу она включала особенно труднопроходимый участок. С древних времен и до наших дней главная дорога из Малой Азии в Киликию и Сирию проходила через этот перевал. Во времена Римской империи, несомненно, она была улучшена, что сделало движение по ней сравнительно легче. Однако описания современных путешественников представляют ее столь же трудной, как любая дорога, по которой когда-либо проходила армия. [250] За семьдесят лет до Александра через нее прошел младший Кир с 10 000 греков в походе против своего брата Артаксеркса; и Ксенофонт, [251] [стр. 112] прошедший тогда этим путем, утверждал, что он абсолютно непроходим для армии, если защищается хоть каким-то гарнизоном. Сам Кир был настолько убежден в этом, что подготовил флот, чтобы в случае занятости перевала высадить войска с моря в Киликии в тыл защитников; и велико же было его изумление, когда он обнаружил, что обычная персидская беспечность оставила ущелье без защиты. Самое узкое место едва вмещало четырех вооруженных человек в ряд, будучи зажато с обеих сторон отвесными скалами. [252] Здесь, как нигде более, могла бы быть реализована оборонительная стратегия Мемнона. Для Александра, уступавшего на море, вариант, использованный Киром, был недоступен.
Тем не менее, Арсам, персидский сатрап, командовавший в Тарсе в Киликии, получив, по-видимому, от своего господина либо никаких указаний, либо даже хуже, действовал так, будто ничего не знал о своем предприимчивом враге к северу от Тавра. При первом приближении Александра немногочисленные персидские солдаты, занимавшие перевал, бежали без боя, будучи, видимо, не готовы к противнику серьезнее горных разбойников. Таким образом, Александр овладел этим почти непреодолимым барьером без единой потери. [253] На следующий день он провел всю свою армию через него в Киликию и, прибыв через несколько часов в Тарс, обнаружил, что город уже покинут Арсамом. [254]
В Тарсе Александр сделал длительную остановку – гораздо дольше, чем планировал. Либо от чрезмерной усталости, либо от купания в холодной воде реки Кидн в разгоряченном состоянии, его охватила сильная лихорадка, которая вскоре достигла такой опасной степени, что его жизнь оказалась под угрозой. Среди горя и тревоги, охвативших армию из-за этого несчастья, ни один из врачей не осмелился применить лекарства, опасаясь ответственности за возможный смертельный исход. [255] Лишь один из них, акарнанец по имени Филипп, давно известный и доверенный Александру, взялся вылечить его сильным слабительным. Александр велел ему приготовить его; но прежде чем настало время принять лекарство, он получил конфиденциальное письмо от Пармениона, умолявшего его остерегаться Филиппа, которого Дарий подкупил, чтобы отравить его. Прочитав письмо, он положил его под подушку. Вскоре явился Филипп с лекарством, которое Александр принял и выпил без комментариев, одновременно передав ему письмо для прочтения и наблюдая за выражением его лица. Взгляд, слова и жесты врача полностью его успокоили. Филипп с негодованием отверг клевету, повторил свою уверенность в лекарстве и поклялся отвечать за результат. Сначала оно подействовало так сильно, что Александр, казалось, стал еще хуже и даже оказался на пороге смерти; но через некоторое время проявились его целебные свойства. Лихорадка отступила, и Александр был объявлен вне опасности, к радости всей армии. [256] Разумный срок потребовался для восстановления его прежнего здоровья и сил.
Первым его действием после выздоровления стала отправка Пармениона во главе греков, фессалийцев и фракийцев его армии с целью очистить путь вперед и занять перевал, называемый Киликийско-Сирийскими Воротами. [257] Эта узкая дорога, ограниченная с востока хребтом Амана и с запада морем, некогда была перекрыта двойной поперечной стеной с воротами для прохода, обозначавшими границу между Киликией и Сирией. Ворота, находившиеся примерно в шести днях пути от Тарса, [258] оказались под охраной, но гарнизон бежал после незначительного сопротивления. В то же время сам Александр, ведя македонские войска в юго-западном направлении от Тарса, потратил некоторое время на подчинение и приведение в порядок городов Анхиала и Сол, а также киликийских горцев. Затем, вернувшись в Тарс и возобновив поход, он двинулся вперед с пехотой и избранной кавалерийской эскадрой, сначала в Магарс у устья реки Пирам, затем в Малл; основная масса кавалерии под командованием Филота была отправлена более прямым путем через Алейскую равнину. Малл, посвященный пророку Амфилоху как герою-покровителю, считался колонией Аргоса; по обеим этим причинам Александр был склонен относиться к нему с особым уважением. Он принес торжественную жертву Амфилоху, освободил Малл от дани и уладил беспокоившие граждан раздоры. [259]
Именно в Малле он получил первое четкое сообщение о Дарии и основной персидской армии, которая, как сообщалось, стояла лагерем в Сохи в Сирии, к востоку от Амана, примерно в двух днях пути от горного перевала, ныне называемого Бейлан. Этот перевал, пересекающий Аманский хребет, служит продолжением главной дороги из Малой Азии в Сирию после прохождения сначала через Тавр, а затем через труднопроходимый участок (названный Киликийско-Сирийскими Воротами) между Аманом и морем. Собрав своих главных командиров, Александр сообщил им о позиции Дария, который теперь стоял на просторной равнине с огромным численным превосходством, особенно в кавалерии. Хотя местность была скорее благоприятна для врага, македоняне, полные надежд и мужества, призвали Александра немедленно повести их в бой. Соответственно, Александр, довольный их рвением, начал марш на следующее утро. Он прошел через Исс, где оставил больных и раненых под небольшим прикрытием, [стр. 115] затем через Киликийско-Сирийские Ворота. На второй день марша от этих Ворот он достиг сирийского порта Мириандр, первого города Сирии или Финикии. [260]
Здесь, задержанный в лагере на день из-за ужасной бури, он получил известия, полностью изменившие его планы. Персидская армия покинула Сохи и теперь находилась в Киликии, следуя за ним по пятам. Она уже захватила Исс.
Дарий вывел из внутренних областей свое огромное и разнородное войско, насчитывавшее, по утверждениям, 600 000 человек. Его мать, жена, гарем, дети и свита сопровождали его, чтобы стать свидетелями того, что ожидалось как несомненный триумф. Весь аппарат роскоши и помпезности был заготовлен в изобилии для царя и его персидской знати. Обоз был огромен: одного только золота и серебра, как сообщается, хватило бы для нагрузки 600 мулов и 300 верблюдов. [261] Временный мост через Евфрат потребовал пяти дней, чтобы вся армия смогла переправиться. [262] Однако значительная часть сокровищ и обоза не последовала с армией к Аману, а была отправлена под охраной в Дамаск в Сирии.
Во главе такой подавляющей силы Дарий жаждал немедленно дать генеральное сражение. Для него было недостаточно просто сдерживать врага, которого он рассчитывал разгромить при первой же встрече. Соответственно, он не отдал приказов (как мы уже видели) защищать линию Тавра; он позволил Александру беспрепятственно войти в Киликию и намеревался так же пропустить его через оставшиеся укрепленные перевалы – сначала Киликийско-Сирийские Ворота между Аманом и морем, затем перевал Бейлан через сам Аман. Он и ожидал, и желал, чтобы его враг вышел на равнину для битвы, где его должны были растоптать бесчисленные персидские всадники.
Но эти ожидания не оправдались сразу. Стремительные и неуклонные до этого движения Александра, казалось, застопорились. Мы уже упоминали опасную лихорадку, угрожавшую его жизни, которая не только вызвала долгую остановку, но и породила беспокойство в македонской армии. Все это, несомненно, дошло до персов с изрядными преувеличениями: и когда Александр, сразу после выздоровления, вместо того чтобы двинуться вперед к ним, повернул прочь, чтобы подчинить западную часть Киликии, Дарий истолковал это как признак колебания и страха. Даже утверждается, что Парменион предлагал дожидаться атаки персов в Киликии, и Александр сначала согласился. [263] Во всяком случае, Дарий через некоторое время убедился – и его азиатские советники и царедворцы уверяли его – что македоняне, хотя и дерзкие и победоносные против пограничных сатрапов, теперь отступают, устрашенные приближением полномасштабной мощи империи, и не осмелятся оказать сопротивление. Под этим впечатлением Дарий решил двинуться в Киликию со всей армией. Правда, Тимод и другие разумные греческие советники – вместе с македонским изгнанником Аминтой – возражали против этого нового решения, умоляя его придерживаться первоначального плана. Они заверяли, что Александр сам атакует его, где бы он ни был, и притом скоро. Они указывали на неосмотрительность битвы в узких киликийских ущельях, где его численность, особенно огромная кавалерия, окажется бесполезной. Однако их совет был не только проигнорирован Дарием, но и осужден персидскими советниками как предательский. [264] Даже некоторые греки в лагере разделяли и передавали в своих письмах в Афины слепую уверенность монарха. Приказ был немедленно отдан всей армии покинуть равнины Сирии и двинуться через Аман в Киликию. [265]
Переход через такой хребет, как Аман, с многочисленной армией, тяжелым обозом и помпезной свитой (включая весь необходимый персонал для царской семьи), должно быть, занял немало времени; и оба перевала через эту гору были узкими и легко обороняемыми. [266] Дарий выбрал северный из них, который вывел его в тыл врага.
Таким образом, в то время как македоняне шли на юг, чтобы пересечь Аман через южный перевал и атаковать Дария на равнине, сам Дарий входил в Киликию через северный перевал, чтобы отбросить их назад в Македонию. [267] Достигнув Исса примерно через два дня после того, как они его покинули, он захватил оставленных там больных и раненых. С отвратительной жестокостью его вельможи убедили его подвергнуть этих несчастных либо смерти, либо отсечению рук. [268] Затем он двинулся вперед – по той же дороге вдоль берега залива, которой уже следовал Александр – и встал лагерем на берегу реки Пинар.
Беглецы из Исса поспешили предупредить Александра, настигнув его в Мириандре. Он был так поражен, что отказался верить новости, пока она не была подтверждена офицерами, которых он отправил на север вдоль побережья залива на небольшой галере и которые ясно увидели огромные персидские толпы на берегу. Затем, собрав главных командиров, он сообщил им о приближении врага, разъясняя благоприятные предзнаменования, при которых теперь предстояло дать бой. [269] Его речь была встречена одобрительными возгласами слушателей, требовавших лишь вести их против врага. [270]
Его расстояние от персидской позиции могло составлять около восемнадцати миль. [271] Совершив ночной марш после ужина, он к полуночи достиг узкого ущелья (между горой Аманус и морем), называемого Киликийскими и Сирийскими Воротами, через которое он прошел двумя днями ранее. Вновь овладев этой важной позицией, он отдохнул там последнюю часть ночи и на рассвете двинулся на север, к Дарию.
Сначала ширина проходимой дороги была настолько ограничена, что позволяла двигаться только узкой колонной, с кавалерией, следующей за пехотой; вскоре она расширилась, что позволило Александру увеличить фронт, последовательно выдвигая подразделения фаланги. Приблизившись к реке Пинар (которая пересекала проход), он построил боевой порядок.
На крайнем правом фланге он разместил гипаспистов, или легкое подразделение гоплитов; далее (считая справа налево) – пять таксисов (дивизий) фаланги под командованием Кена, Пердикки, Мелеагра, Птолемея и Аминты. Три последних, левых подразделения находились под общим командованием Кратера, который, в свою очередь, подчинялся приказам Пармениона, командовавшего всей левой половиной армии.
Ширина равнины между горами справа и морем слева, по словам источников, составляла не более четырнадцати стадий, или около полутора английских миль. [272] Опасаясь быть охваченным превосходящими силами персов, Александр строго приказал Пармениону держаться ближе к морю. Его македонская кавалерия, «друзья» (гетайры), вместе с фессалийцами, была размещена на правом фланге; там же находились агриане и основная часть легкой пехоты. Пелопоннесская и союзная кавалерия, [стр. 119] а также фракийская и критская легкая пехота были отправлены на левый фланг к Пармениону. [273]
Дарий, узнав о приближении Александра, решил сражаться там, где стоял его лагерь, за рекой Пинар. Однако он переправил через реку отряд из 30 000 кавалеристов и 20 000 пехотинцев, чтобы обеспечить беспрепятственное построение своих основных сил. [274]
Свою фалангу, или основную линию боя, он составил из 90 000 гоплитов: 30 000 греческих гоплитов в центре и по 30 000 азиатов, вооруженных как гоплиты (кардаки), по обе стороны от них. Эти войска – не разделенные на отдельные отряды, а сгруппированные в одну массу [275] – заполнили пространство между горами и морем. На горах слева он разместил отряд из 20 000 человек, предназначенный для действий против правого фланга и тыла Александра. Но для огромной численной массы его войск не нашлось места, и они остались бесполезными в тылу греческих и [стр. 120] азиатских гоплитов, не будучи ни резервом, ни готовыми к поддержке в случае необходимости.
Когда его линия была полностью построена, он отозвал на левый берег Пинара 30 000 кавалеристов и 20 000 пехотинцев, отправленных ранее как прикрытие. Часть этой кавалерии была направлена на крайний левый фланг, но горная местность оказалась для них непригодной, и они были вынуждены перейти на правый фланг, где в итоге собралась основная масса персидской кавалерии.
Сам Дарий в колеснице находился в центре линии, позади греческих гоплитов. Перед всей его линией протекала река (или ручей) Пинар; ее берега, во многих местах естественно крутые, он дополнительно укрепил насыпями. [276]
Как только Александр, после отхода персидского прикрытия, смог разглядеть окончательные построения Дария, он внес некоторые изменения в свои собственные: перевел фессалийскую кавалерию с правого фланга на левый скрытым маневром и выдвинул вперёд на правом фланге кавалерию-сариссофоров, а также легкую пехоту, пеонийцев и лучников.
Агриане вместе с частью кавалерии и другими лучниками были отделены от основной линии, чтобы образовать косой фронт против 20 000 персов на холмах, угрожавших его флангу. Когда эти 20 000 человек приблизились настолько, что стали представлять опасность, Александр приказал агрианам атаковать их и оттеснить дальше в горы. Те проявили так мало стойкости и так легко отступили, что он перестал опасаться серьезной угрозы с их стороны. Поэтому он ограничился тем, что оставил против них в резерве отряд из 300 тяжелых всадников, а агриан и остальных разместил на правом фланге основной линии, чтобы уравнять фронт с противником. [277]
[стр. 121] Построив свои войска и дав им отдых после марша, он начал медленное продвижение, стремясь сохранить ровный фронт и ожидая, что противник перейдет Пинар ему навстречу. Но так как персы не двигались, он продолжил наступление, сохраняя строй, пока не оказался на расстоянии выстрела из лука.
Тогда он сам, во главе своей кавалерии, гипаспистов и правого крыла фаланги, ускорил шаг, быстро перешел реку и обрушился на кардаков (азиатских гоплитов) на левом фланге персов. Не готовые к внезапности и ярости этой атаки, кардаки почти не оказали сопротивления и бежали после первого же столкновения, преследуемые македонским правым флангом.
Дарий, находившийся в центре в своей колеснице, увидел, что это неудачное бегство оставило его левый фланг открытым. Охваченный паникой, он приказал развернуть колесницу и бежал в числе первых беглецов. [278] Он оставался в колеснице, пока местность позволяла, но, достигнув пересеченной местности, пересел на коня, чтобы обеспечить себе побег; в таком ужасе, что бросил лук, щит и царскую мантию. Кажется, он не отдал ни одного приказа и не предпринял ни малейшей попытки исправить первоначальную неудачу.
Бегство царя стало сигналом для всех, кто его заметил, и огромная армия в тылу вскоре превратилась в толпу, давящую друг друга в попытках пробиться через труднопроходимую местность. Дарий был не только центром объединения для всех разнородных контингентов армии, но и единственным командующим, так что после его бегства не осталось никого, кто мог бы отдать общий приказ.
Эта великая битва – или, скорее, то, что должно было стать великой битвой – была проиграна из-за бегства азиатских гоплитов на левом фланге персов и немедленного бегства Дария – всего через несколько минут после начала. [стр. 122]
Но центр и правый фланг персов, еще не знавшие о случившемся, сражались храбро. Когда Александр стремительно двинулся вперед с правым флангом под своим личным командованием, фаланга в его левом центре (под началом Кратера и Пармениона) либо не получила такого же приказа ускориться, либо была задержана и расстроена более крутыми берегами Пинара. Здесь на них напали греческие наемники – лучшие войска персидской армии.
Бой был упорным, и македоняне понесли значительные потери: погиб командир дивизии Птолемей, сын Селевка, и 120 воинов первого ряда (отборных фалангитов). Но вскоре Александр, завершив разгром левого фланга противника, вернул свои победоносные войска из преследования, атаковал греческих наемников во фланг и обеспечил решающее преимущество своим воинам.
Греческие наемники были разбиты и отступили. [стр. 123] Узнав, что Дарий бежал, они покинули поле боя как могли, но, кажется, в относительном порядке. Есть основания полагать, что часть из них прорвалась через горы или через македонские линии и ушла на юг. [279]
Тем временем на правом фланге персов, ближе к морю, тяжелая персидская кавалерия проявила большую храбрость. Они осмелились перейти Пинар [280] и яростно атаковать фессалийцев, с которыми вели ожесточенный бой, пока не распространилась весть о бегстве Дария и разгроме левого фланга. Тогда они повернули назад и бежали, понеся тяжелые потери при отступлении.
О кардаках на правом фланге греческих гоплитов в персидской линии ничего не сообщается, как и о противостоящей им македонской пехоте. Возможно, эти кардаки почти не вступали в бой, поскольку кавалерия на их участке была занята тяжелым сражением. В любом случае они присоединились к общему бегству персов, как только стало известно о бегстве Дария. [281]
Разгромив персов, Александр начал энергичное преследование. Уничтожение и резня беглецов были чудовищными. На столь узком пространстве, иногда сужающемся до ущелья и изрезанном руслами рек, их огромные толпы не находили места и давили друг друга.
Столько же погибло от давки, сколько от мечей победителей; Птолемей (впоследствии царь Египта, спутник и историк Александра) рассказывал, что во время преследования он наткнулся на овраг, забитый трупами, через который перешел, как по мосту. [282]