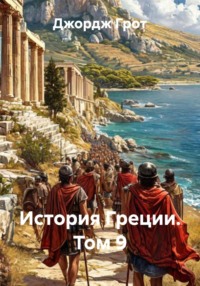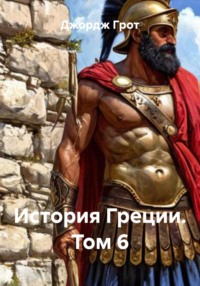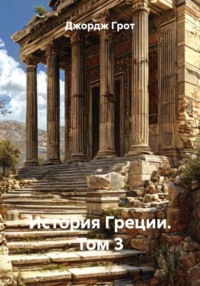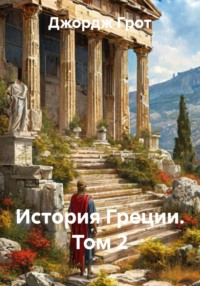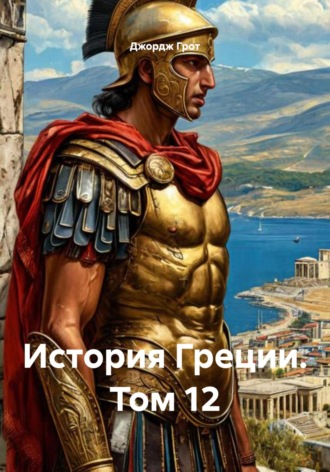
Полная версия
История Греции. Том 12
Преследование продолжалось, пока позволял свет ноябрьского дня; но битва началась поздно. Лагерь Дария был захвачен вместе с его матерью, женой, сестрой, малолетним сыном и двумя дочерьми. Его колесница, щит и лук также попали в руки победителей; было найдено 3000 талантов денег, хотя большая часть сокровищ была отправлена в Дамаск.
Общие потери персов, как сообщается, составили 10 000 всадников и 100 000 пехотинцев; среди убитых были несколько знатных персов – Арсам, Реомифр и Атизий (командовавший при Гранике), Сабак, сатрап Египта.
Македоняне, по данным источников, потеряли 300 пехотинцев и 150 всадников. Сам Александр был легко ранен мечом в бедро. [283]
Мать, жена и семья Дария, оказавшиеся в плену, были окружены по приказу Александра величайшим вниманием и уважением.
Когда Александр вернулся ночью с преследования, он нашел царский шатер приготовленным для него. Внутри он услышал плач женщин и узнал, что это мать и жена Дария, которые, увидев его лук и щит, решили, что он погиб, и рыдали.
Александр немедленно послал Леонната успокоить их, сообщив, что Дарий жив, и пообещав, что они сохранят царские почести – его война против Дария ведется не из ненависти, а как честный спор за империю Азии. [284]
Помимо этого достоверного эпизода, ходило множество других, недостоверных или ложных, рассказов о его добром обращении с пленницами; сам Александр вскоре после битвы услышал вымыслы на эту тему и счел нужным опровергнуть их в письме.
Достоверно известно (из сохранившегося отрывка этого письма), что он никогда не видел и даже не думал видеть пленную жену Дария, считавшуюся самой красивой женщиной Азии; более того, он отказался слушать похвалы ее красоте. [285]
Как эта огромная масса беглецов выбралась из узких пределов Киликии или сколько из них покинуло страну тем же путем через гору Аманус, которым пришла, – неизвестно. Вероятно, многие, включая самого Дария, спаслись через горы по второстепенным тропам, непригодным для армии с обозом, но подходящим для небольших групп.
Дарию удалось собрать 4000 беглецов, с которыми он поспешил к Фапсаку и вновь переправился через Евфрат.
Единственным сохранившим боеспособность отрядом после битвы были 8000 греческих наемников под командованием Аминты и Тимода. Они пробились из Киликии (по-видимому, на юг, в сторону Мириандра) к Триполису на финикийском побережье, где нашли корабли, на которых прибыли с Лесбоса.
Захватив достаточное количество судов и уничтожив остальные, чтобы предотвратить погоню, они сразу переправились на Кипр, а оттуда – в Египет. [286]
За этим единственным исключением, огромная персидская армия исчезла после битвы при Иссе. Не было попыток реорганизовать ее или собрать новую, пока два года спустя не появились свежие силы.
Добыча победителей была огромной – не только золото и серебро, но и пленные для работорговли. На следующий день после битвы Александр принес торжественную благодарственную жертву, воздвигнув три алтаря на берегу Пинара; одновременно он похоронил мертвых, утешил раненых и наградил отличившихся. [287]
Ни одна победа в истории не была столь полной сама по себе и не имела столь далеко идущих последствий, как победа при Иссе.
Не только персидская армия была уничтожена или рассеяна, но и усилия Дария по восстановлению оказались парализованы пленением его семьи.
Части разгромленной армии появлялись в разных местах для отдельных операций, но мы не увидим больше сопротивления Александру и его основным силам, кроме храбрых жителей двух укрепленных городов.
Повсюду распространилось подавляющее чувство восхищения и ужаса перед силой, умением или удачей Александра (как бы это ни называли) – наряду с презрением к реальной ценности персидской армии, несмотря на ее внушительную pomp и численный перевес.
Это презрение, ранее знакомое лишь образованным грекам, теперь, благодаря беспрецедентной катастрофе, стало достоянием даже простых умов.
И как полководец, и как воин Александр проявил выдающееся мастерство, в то время как Дарий – вопиющую некомпетентность.
Главную ошибку последнего обычно видят в том, что он дал бой не на открытой равнине, а в узкой долине, где его численное превосходство оказалось бесполезным. Но это (как уже отмечалось) была лишь одна из многих ошибок, и не самая серьезная.
Результат был бы тем же, если бы битва произошла на равнинах к востоку от Амануса. Превосходство в численности мало помогает на любой местности, если нет полководца, умеющего им воспользоваться; если войска не разделены на отряды, способные атаковать по многим направлениям или хотя бы поддерживать друг друга в обороне, чтобы поражение одной части не означало поражения всей армии.
Вера Дария в простую массу была слепа и наивна; [288] более того, она исчезла, как только он увидел, что враги не бегут, а смело идут на него – что видно по его поведению на берегах Пинара, где он ждал атаки вместо того, чтобы выполнить свою угрозу растоптать горстку противников. [289]
Но Дарий не только как полководец действовал так, что поражение стало неизбежным. Даже если бы его построения были идеальны, его личная трусость – бегство с поля боя и забота лишь о собственной безопасности – свела бы все на нет. [290]
Хотя персидская знать обычно отличалась личной храбростью, Дарий и в дальнейшем, в битве при Гавгамелах (на просторной равнине, выбранной им самим), вновь проявит ту же жалкую трусость и неумение использовать численный перевес.
Счастлив был Мемнон, что не дожил до отказа от своих планов и последовавшего за этим краха! Флот в Эгейском море, который после его смерти перешел под командование Фарнабаза, хотя и ослабленный потерей наемников, отозванных Дарием к Иссу, и деморализованный серьезным поражением, которое перс Оронтобат потерпел от македонцев в Карии, [291] тем не менее не бездействовал, пытаясь организовать антимакедонские выступления в Греции.
Когда Фарнабаз находился на острове Сифнос со своими 100 триремами, его посетил спартанский царь Агис, который настаивал на отправке в Пелопоннес как можно большего числа войск для поддержки запланированного спартанцами восстания. Однако эти агрессивные планы были мгновенно сорваны устрашающей вестью [стр. 128] о битве при Иссе. Опасаясь восстания на Хиосе после этого известия, Фарнабаз немедленно отплыл туда с крупным отрядом. Агис, получив лишь субсидию в тридцать талантов и эскадру из десяти трирем, был вынужден отказаться от своих планов в Пелопоннесе и ограничиться руководством операциями на Крите, которые должен был вести его брат Агесилай, в то время как он сам оставался среди островов и в итоге сопровождал перса Автофрадата в Галикарнас. [292]
Впрочем, похоже, что позже он все же отправился руководить действиями на Крите и добился там значительных успехов, склонив несколько критских городов присоединиться к персам. [293] В целом же победа при Иссе подавила свободный дух по всей Греции и стала для Александра гарантией хотя бы временного спокойствия. Филимакедонский синод, собравшийся в Коринфе во время Истмийских игр, выразил свою радость, отправив к нему посольство с поздравлениями и золотым венком. [294]
Не задерживаясь после победы, Александр двинулся через Келесирию к финикийскому побережью, отправив Пармениона по пути атаковать Дамаск, куда Дарий перед битвой отправил большую часть своей казны вместе со многими доверенными сановниками, знатными персидскими женщинами и послами. Хотя город мог бы выдержать длительную осаду, он сдался без сопротивления из-за предательства или трусости наместника, который лишь сделал вид, что пытается вывезти сокровища, но на самом деле позаботился о том, чтобы они попали в руки врага. [295] Там было захвачено огромное богатство – а также несметное число слуг и предметов роскоши, принадлежавших двору и знати. [296] Кроме того, пленных оказалось так много, [стр. 129] что почти все знатные персидские семьи оплакивали потерю кого-то из родных, мужчин или женщин. Среди них были вдова и дочери царя Оха, предшественника Дария, – дочь его брата Оксатра, – жены Артабаза и Фарнабаза, три дочери Ментора, а также Барсина, вдова покойного Мемнона, с ребенком, отправленная им в качестве заложницы верности. Там же находились и несколько видных греческих изгнанников – фиванцы, спартанцы и афиняне, бежавшие к Дарию, который счел нужным отправить их в Дамаск, вместо того чтобы позволить им сражаться в армии при Иссе.
Фиванские и афинские изгнанники были немедленно освобождены Александром; спартанцев же временно арестовали, но вскоре отпустили. Среди афинских изгнанников был человек благородного происхождения – Ификрат, сын знаменитого афинского полководца. [297] Пленный Ификрат не только получил свободу, но и под влиянием учтивого и почетного обращения остался с Александром. Однако вскоре он умер от болезни, и его прах был затем собран по приказу Александра, чтобы отправить семье в Афины.
Я уже упоминал в предыдущем томе, [298] что старший Ификрат был усыновлен дедом Александра в македонскую царскую семью как спаситель их трона: вероятно, именно это обстоятельство определило особую благосклонность к его сыну, а не какие-либо чувства к Афинам или военному таланту отца. Разница в положении между Ификратом-отцом и Ификратом-сыном – одно из печальных свидетельств упадка эллинизма; отец, выдающийся военачальник, действовавший среди свободных граждан, защищавший оружием безопасность и достоинство своих сограждан и даже вмешивавшийся для спасения македонской царской семьи; сын, вынужденный [стр. 130] наблюдать унижение родного города македонскими войсками и лишенный всех средств для его возрождения или спасения, кроме службы у восточного царя, чья глупость и трусость разом лишили его и собственной безопасности, и свободы Греции.
Овладев Дамаском и Келесирией, Александр двинулся дальше в Финикию. Первым финикийским городом, к которому он подошел, был Мараф, на материке напротив острова Арад, составлявший вместе с этим островом и несколькими соседними городами владение арадского князя Герострата. Сам князь в это время служил со своим флотом в составе персидской эскадры в Эгейском море; но его сын Страт, управлявший городом, отправил Александру знаки покорности с золотым венком и сразу передал ему Арад с соседними городами. Примеру Страта последовали сначала жители Библа, следующего финикийского города к югу, затем – великого города Сидона, царицы и прародительницы всего финикийского процветания. Сидоняне даже прислали послов, чтобы встретить его и пригласить в город. [299] Их настроения были враждебны персам из-за воспоминаний о кровавых и вероломных событиях (около восемнадцати лет назад), сопровождавших захват их города войсками Оха. [300] Тем не менее, морские контингенты и Библа, и Сидона (как и Арада) в этот момент находились в Эгейском море под командованием персидского адмирала Автофрадата и составляли значительную часть всего его флота. [301]
Пока Александр еще находился в Марафе, перед дальнейшим походом, он получил послов и письмо от Дария с просьбой вернуть его мать, жену и детей – и предложением дружбы и союза, как от одного царя к другому. Дарий также попытался доказать, что македонский Филипп первым начал вражду против Персии, что Александр продолжил ее, а он сам (Дарий) действовал лишь в самообороне. В ответ Александр написал письмо, в котором изложил свои претензии к Дарию, провозгласив себя избранным вождем греков, призванным отомстить за древнее вторжение Ксеркса в Грецию. Затем он выдвинул ряд обвинений против Дария, которого обвинил в организации убийства Филиппа, а также в поддержке антимакедонских городов в Греции.
«Теперь (продолжал он), по милости богов, я одержал победу – сначала над твоими сатрапами, затем над тобой самим. Я позаботился обо всех, кто подчинился мне, и сделал их довольными своей участью. Приди и ты ко мне, как к владыке всей Азии. Приди без страха пострадать; проси, и ты получишь обратно свою мать, жену и все, что пожелаешь. Однако, когда в следующий раз будешь писать мне, обращайся не как к равному, а как к повелителю Азии и всего, что тебе принадлежит; иначе я поступлю с тобой как с преступником. Если ты намерен оспаривать царство у меня, стой и сражайся за него, а не беги. Я пойду против тебя, где бы ты ни был.» [302]
Эта памятная переписка, не приведшая ни к чему, важна лишь как отражение характера Александра, для которого борьба и победы были одновременно делом и наслаждением жизни, и для которого любое притязание на равенство и независимость, даже со стороны других царей – все, что не было подчинением и покорностью, – представлялось оскорблением, требующим отмщения. Перечисление взаимных обид с обеих сторон было лишь бессмысленной уловкой. Реальный и единственный вопрос заключался (как сам Александр выразил это в своем послании пленной Сисигамбис [303]) в том, кто из двоих станет владыкой Азии.
Решение этого вопроса, уже предопределенное исходом битвы при Иссе, стало почти несомненным благодаря быстрым и беспрепятственным успехам Александра в большинстве финикийских городов. Последние надежды Персии теперь зависели главным образом от настроений этих финикийцев. Большая часть персидского флота в Эгейском море состояла из финикийских трирем – частично с сирийского побережья, частично с острова Кипр. Если бы финикийские города подчинились Александру, их корабли и моряки либо вернулись бы домой сами, либо были бы отозваны, лишив Персию последнего серьезного козыря. Но если бы финикийские города единодушно сопротивлялись ему, вынуждая осаждать их один за другим – при взаимной поддержке с моря, с превосходством флота, а некоторые из них располагаясь на островах, – препятствия оказались бы столь велики, что даже энергия и способности Александра, возможно, не справились бы с ними; во всяком случае, ему пришлось бы вести тяжелую борьбу, возможно, два года, открывая дверь новым случайностям и усилиям противника.
Поэтому для Александра стало большой удачей, когда правитель острова Арад добровольно сдал ему этот укрепленный город, а примеру последовал еще более значительный Сидон. Финикийцы в целом не были тесно связаны с персами; у них также не было крепкой взаимной сплоченности, хотя как отдельные общины они были храбры и предприимчивы. Среди сидонян даже преобладало отвращение к персам из-за упомянутых событий. Поэтому правитель Арада, на которого сначала наткнулся поход Александра, мало надеялся на помощь соседей в случае сопротивления и еще меньше был склонен держаться в одиночку после того, как битва при Иссе показала непреодолимую силу Александра и бессилие Персии. Один за другим все эти важные финикийские порты, кроме Тира, оказались в руках Александра без боя. В Сидоне правящий князь Страт, известный своей проперсидской позицией, был свергнут, и на его место поставили человека по имени Абдалоним – из царского рода, но жившего в бедности. [304]
С обычной стремительностью Александр двинулся к Тиру – самому могущественному из финикийских городов, хотя, по-видимому, менее древнему, чем Сидон. Уже на марше его встретила делегация из Тира, состоявшая из самых знатных граждан во главе с сыном тирского князя Аземилка, который сам в это время командовал тирским контингентом в персидском флоте. Эти люди принесли богатые дары и припасы для македонской армии, а также золотой венок, торжественно объявив, что тирийцы готовы выполнить любые приказы Александра. [305] В ответ он похвалил их настроения, принял дары и попросил делегацию сообщить дома, что желает войти в Тир и принести жертву Гераклу. Финикийского бога Мелькарта отождествляли с греческим Гераклом, считая его предком македонских царей. Его храм в Тире был древнейшим; более того, говорят, что повеление принести там жертву было передано Александру через оракула. [306]
Тирийцы, обсудив это послание, ответили отказом, заявив, что не допустят в свои стены ни македонцев, ни персов, но во всем остальном готовы подчиняться приказам Александра. [307] Они добавили, что его желание принести жертву Гераклу можно исполнить и без входа в их город, поскольку в Палеотире (на материке напротив острова Тира, отделенном от него лишь узким проливом) есть храм этого бога, еще более древний и почитаемый, чем их собственный. [308]
Разгневанный этим условным подчинением, в котором он видел лишь отказ, Александр отпустил послов с гневными угрозами и немедленно решил взять Тир силой. [309]
Те, кто (как Диодор) считает такой отказ тирийцев глупым упрямством, [310] не вполне учитывают, сколько скрывалось за этим требованием. Когда Александр совершал торжественное жертвоприношение Артемиде в Эфесе, он шел к ее храму со всей армией в боевом порядке. [311] Нет сомнений, что его жертва Гераклу в Тире – его мифическому предку, чьей главной чертой была сила – сопровождалась бы столь же грозным военным парадом, как это и произошло после взятия города. [312]
Таким образом, тирийцев просили впустить в свои стены непобедимую военную силу, которая, возможно, ушла бы после завершения обряда, но могла и остаться – полностью или частично – как постоянный гарнизон в почти неприступной позиции. Они не терпели такого от Персии и не желали терпеть от нового владыки. Фактически это означало рисковать всем, сразу подчиняясь судьбе, которая могла оказаться хуже, чем поражение после долгой осады.
С другой стороны, учитывая, что тирийцы соглашались на все, кроме военной оккупации, Александр, будь он склонен к компромиссу, мог бы получить от них все, что действительно было нужно для его целей, без необходимости осаждать город. Главная ценность финикийских городов заключалась в их флоте, который сейчас действовал на стороне персов и обеспечивал им господство на море. [313] Если бы Александр потребовал отозвать этот флот от персов и передать ему, нет сомнений, что он легко добился бы этого. У тирийцев не было мотива жертвовать собой ради Персии, и они вряд ли (как предполагает Арриан) пытались лавировать между двумя противниками, словно исход борьбы еще не ясен. [314]
Но, не желая отдавать свой город на произвол македонских солдат, они решили бросить вызов осаде. Гордость Александра, не терпящая сопротивления даже самым крайним требованиям, побудила его пойти на политически невыгодный шаг, лишь чтобы продемонстрировать свою власть, унизив и сокрушив – с осадой или без – один из древнейших, гордых, богатых и развитых городов древнего мира.
Тир был расположен на острове, удаленном от материка почти на полмили; [315] пролив между ними был мелководным ближе к берегу, но достигал глубины восемнадцати футов у города. Остров был окружен мощными стенами, самая высокая часть которых, обращенная к материку, достигала не менее 150 футов в высоту, с соответствующей толщиной и основательностью. [316] Помимо этих внешних укреплений, внутри города находилось храброе и многочисленное население, обеспеченное запасами оружия, осадных машин, кораблей, провизии и других необходимых для обороны вещей.
Не без оснований тирийцы, оказавшись в отчаянном положении, надеялись выстоять даже против могучей армии Александра. И против Александра в его тогдашнем состоянии они, возможно, устояли бы, ведь у него еще не было флота, и они могли отразить любую атаку только с суши. Все зависело от финикийских и кипрских кораблей, большинство которых (включая тирские) находилось в Эгейском море под командованием персидского адмирала. Александр, уже завладевший Арадом, Библом, Сидоном и всеми финикийскими городами, кроме Тира, рассчитывал, что моряки из этих городов последуют за своими соотечественниками и переведут корабли к нему. Он также надеялся, что кипрские города, видя его победы, добровольно перейдут на его сторону. [стр. 136] Это почти наверняка произошло бы, если бы он проявил к тирийцам хоть какое-то уважение, но теперь, сделав их врагами, он уже не мог быть уверен в этом.
Мы плохо знаем, что происходило в персидском флоте под командованием Автофрадата в Эгейском море, когда они узнали, что Александр захватил остальные финикийские города и начал осаду Тира. Тирский князь Аземилк вернул свои корабли для защиты родного города; [317] сидонские и арадские корабли также отправились домой, больше не желая сражаться против власти, которой подчинились их города. Но киприоты дольше колебались, прежде чем определиться. Если бы Дарий или даже Автофрадат без Дария, вместо того чтобы полностью бросить Тир (как они и поступили), активно поддержали его сопротивление, как того требовали интересы Персии, кипрские корабли, вероятно, остались бы на их стороне. Наконец, тирийцы могли надеяться, что их финикийские собратья, даже если и готовы служить Александру против Персии, не станут усердствовать в уничтожении родного города. Хотя в итоге все эти возможности обернулись в пользу Александра, поначалу они давали тирийцам достаточно оснований для их отважного решения. Их также воодушевляли обещания помощи от могучего флота их колонии – Карфагена. В этот город, чьи послы находились в их стенах по случаю религиозных торжеств, они отправили многих своих жен и детей. [318]
Александр начал осаду Тира без флота – сидонские и арадские корабли еще не прибыли. Его первой [стр. 137] задачей было построить прочную дамбу шириной двести футов, перекрывающую полумильный пролив между материком и островом. Он привлек тысячи рабочих из окрестностей; камни в изобилии доставлялись из Палеотира, а дерево – из лесов Ливана. Но работа, хотя и велась с рвением и упорством под давлением Александра, продвигалась медленно и тяжело даже у материка, где тирийцы почти не мешали, а в море стала еще труднее из-за их атак, а также ветра и волн. Тирские триремы и лодки постоянно тревожили рабочих и разрушали часть сооружения, несмотря на защиту македонцев, установивших две башни на переднем крае дамбы и метавших снаряды из осадных машин. Наконец, после непрерывных усилий дамбу почти довели до городской стены, но внезапно, в день сильного ветра, тирийцы отправили брандер, груженный горючими материалами, который врезался в переднюю часть дамбы и поджег башни. Одновременно весь флот города, большие и малые суда, вышел в море, чтобы высадить десант на разных участках дамбы. Атака была настолько успешной, что все македонские машины сгорели, внешние деревянные укрепления, скреплявшие дамбу, были разрушены во многих местах, и значительная часть сооружения развалилась. [319]
Теперь Александру пришлось не только строить новые машины, но и почти заново возводить дамбу. Он решил сделать ее шире и прочнее, чтобы разместить больше башен для защиты от фланговых атак. Но теперь ему стало ясно, что пока тирийцы господствуют на море, никакие усилия на суше не помогут взять город. Оставив Пердикку и Кратера восстанавливать дамбу и строить новые машины, он отправился в Сидон, чтобы собрать как можно больший флот. Он получил триремы из разных источников – две с Родоса, десять из ликийских портов, три из Соли и Малла. Но основную силу составили корабли финикийских городов – Сидона, Библа и Арада, теперь подчиненных ему. Эти восемьдесят кораблей покинули персидского адмирала и прибыли в Сидон, ожидая его приказов; вскоре после этого кипрские цари также явились туда, предложив ему свой мощный флот из 120 военных кораблей. [320] Теперь в его распоряжении было 200 судов, включая большую и лучшую часть персидского флота. Это стало кульминацией македонского триумфа – последнее настоящее и эффективное оружие было вырвано из рук Персии. Предзнаменование, данное орлом у кораблей в Милете, как истолковал Александр, теперь сбылось: благодаря успешным действиям на суше он завоевал и получил в свое распоряжение превосходящий персидский флот. [321]
Распорядившись, чтобы корабли завершили подготовку и тренировки с македонскими солдатами на борту, Александр возглавил отряд легкой пехоты в одиннадцатидневном походе против арабских горцев на Ливане, которых рассеял или подавил, хотя не без личного риска. [322] Вернувшись в Сидон, он обнаружил, что Клеандр прибыл с подкреплением – 4000 греческих гоплитов, желанных союзников для продолжения осады. Затем, поднявшись на борт своего флота в сидонской гавани, он отплыл к Тиру в боевом порядке, надеясь, что тирийцы выйдут на бой. Но те остались внутри, пораженные ужасом и смятением, не зная прежде, что их финикийские собратья теперь среди осаждающих. Убедившись, что тирийцы не примут морского сражения, Александр немедленно приказал заблокировать и охранять две их гавани: северную, обращенную к Сидону, – киприотами, а южную, к Египту, – финикийцами. [323]
[стр. 139] С этого момента судьба Тира была предрешена. Тирийцы больше не могли мешать строительству дамбы, которая была завершена и подведена к городу. На ней установили машины для разрушения стен; подвижные башни подкатили для штурма; атаковали и с моря. Но хотя тирийцы были вынуждены перейти к обороне, они все еще проявляли упорную храбрость и использовали все возможные ухищрения, чтобы отразить осаждающих. Стена, обращенная к дамбе, и даже северная, к Сидону, были настолько мощны, что машины Александра не могли пробить их; но на южной стороне, к Египту, он добился большего успеха. Когда в южной стене была пробита большая брешь, он атаковал ее с двух кораблей, укомплектованных гипаспистами и фалангитами; одним командовал он сам, другим – Адмет. Одновременно он приказал угрожать городу со всех доступных сторон, чтобы отвлечь защитников. Когда два корабля подошли к бреши, с них перекинули абордажные мостки, по которым Александр и Адмет бросились вперед со своими штурмовыми отрядами. Адмет взобрался на стену, но там погиб; Александр также был среди первых, кто взошел на стену, и оба отряда закрепились на ней, сломив сопротивление. В то же время его корабли прорвались в две гавани, так что Тир оказался в его власти со всех сторон. [324]