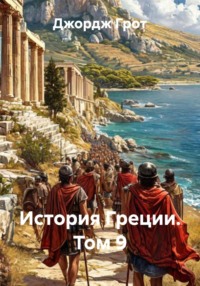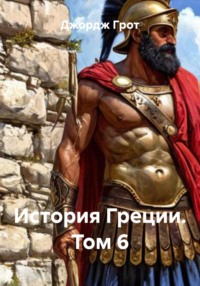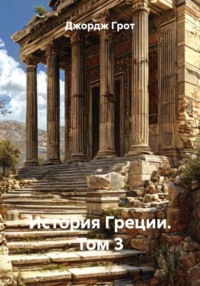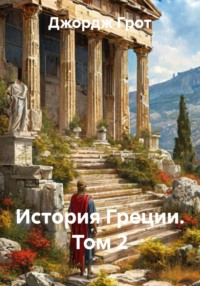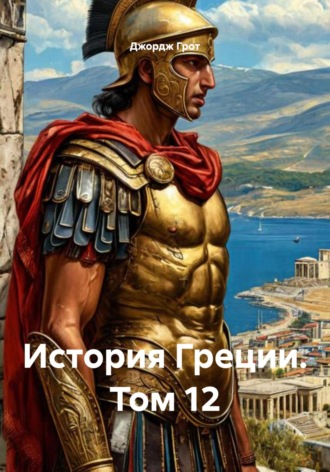
Полная версия
История Греции. Том 12
Вступив на престол в начале 336 г. до н. э., когда Филипп готовил вторжение в Персию, а первый македонский отряд под командованием Пармениона и Аттала уже вёл войну в Азии, Дарий начал готовить оборону и пытался спровоцировать антимакедонские выступления в Греции. [174] После убийства Филиппа Павсанием персидский царь публично заявил (вероятно, ложно), что стоял за этим деянием, и презрительно отозвался о юном Александре. [175] Считая угрозу со стороны Македонии устранённой, он неосмотрительно ослабил усилия и прекратил финансирование в первые месяцы правления Александра, когда тот мог столкнуться с серьёзными трудностями в Греции и Европе из-за активных действий персидского флота и денег. Однако недавние успехи Александра во Фракии, Иллирии и Беотии убедили Дария, что опасность никуда не исчезла, и он возобновил подготовку к обороне. Был отдан приказ снарядить финикийский флот; сатрапы Фригии и Лидии собрали значительные силы, включавшие греческих наёмников, а Мемнон на побережье получил средства для найма 5000 таких наёмников под своё командование. [176]
Точная хронология этих событий в течение девятнадцати месяцев между воцарением Александра и его высадкой в Азии (август 336 г. до н. э. – март/апрель 334 г. до н. э.) неизвестна. В целом мы знаем, что Мемнон действовал активно и даже наступательно на северо-восточном побережье Эгейского моря. Совершив марш на север из своих владений (район Асса или Атарнея у залива Адрамиттия [177]) через горный хребет Иды, он внезапно появился у города Кизика на Пропонтиде. Однако попытка захватить город врасплох не удалась, хотя и лишь чуть-чуть, и ему пришлось довольствоваться богатой добычей из окрестностей. [178] Македонские полководцы Парменион и Каллас переправились в Азию с войсками. Парменион, действуя в Эолиде, взял Гриний, но был вынужден Мемноном снять осаду Питан; а Каллас в Троаде был атакован, разбит и отступил в Ройтий. [179]
Таким образом, в сезон, предшествовавший высадке Александра, персы располагали значительными силами, а Мем [стр. 78] нон действовал активно и успешно даже против македонских полководцев в регионе к северо-востоку от Эгейского моря. Это отчасти объясняет роковую неосмотрительность персов, позволивших Александру беспрепятственно переправить свою армию в Азию весной 334 г. до н. э. Они располагали достаточными средствами для защиты Геллеспонта, если бы решили задействовать флот, который, включая силы финикийских городов, значительно превосходил любые морские силы Александра. Персидский флот действительно появился в Эгейском море несколькими неделями позже. Планы, приготовления и даже предполагаемое время выступления Александра должны были быть хорошо известны не только Мемнону, но и персидским сатрапам в Малой Азии, собравшим войска для противодействия. К несчастью, эти сатрапы считали себя способными противостоять ему в открытом бою, игнорируя мнение Мемнона и отвергая его разумные советы подозрительными и клеветническими обвинениями.
К моменту высадки Александра значительные персидские силы уже собрались у Зелеи во Фригии Геллеспонтской под командованием сатрапа Арсита, поддержанного другими знатными персами – Спитридатом (сатрапом Лидии и Ионии), Фарнаком, Атизием, Митридатом, Ромифром, Нифатом, Петином и другими. Сорок из них были высокого ранга (назывались «родственниками Дария») и славились личной храбростью. Большую часть армии составляла конница, включая мидян, бактрийцев, гирканцев, каппадокийцев, пафлагонцев и др. [180] В коннице они значительно превосходили Александра, но пехота их была малочисленнее, [181] хотя и включала множество греческих наёмников. Общую численность персов Арриан оценивает в 20 000 всадников и почти 20 000 наёмной пехоты; Диодор – в 10 000 всадников и 100 000 пехотинцев; Юстин – даже в 600 000. Цифры Арриана кажутся более правдоподобными; у Диодора число пехоты явно завышено, а конницы, вероятно, занижено.
Мемнон, присутствовавший со своими сыновьями и собственным [стр. 79] отрядом, горячо отговаривал персидских военачальников от риска сражения. Напомнив им, что македонцы не только превосходят численностью в пехоте, но и воодушевлены лидерством Александра, он настаивал на необходимости использовать многочисленную конницу для уничтожения фуража и припасов, а если потребуется – даже самих городов, чтобы сделать продвижение врага невозможным. Придерживаясь строгой обороны в Азии, он предлагал перенести войну в Македонию: задействовать флот, посадить на корабли значительные сухопутные силы и не только атаковать уязвимые точки Александра на его родине, но и поощрять враждебные действия против него со стороны греков и других соседей. [182]
Если бы этот план был энергично исполнен с помощью персидских войск и денег, можно не сомневаться, что Антипатр в Македонии вскоре столкнулся бы с серьёзными опасностями и затруднениями, а Александру пришлось бы вернуться для защиты своих владений, возможно, даже потеряв часть армии при переправе из-за персидского флота. Как минимум, его планы вторжения в Азию были бы сорваны. Однако он был избавлен от этой дилеммы невежеством, гордостью и корыстью персидских военачальников. [стр. 80] Неспособные оценить военное превосходство Александра, но уверенные в собственной храбрости, они отвергли предложение отступить как позорное, намекая, что Мемнон хочет затянуть войну, чтобы усилить своё влияние при дворе Дария. Это чувство воинской чести подкреплялось тем, что персидские командиры, получавшие доходы с земли, разорились бы, уничтожая урожай. Арсит, на чьей территории стояла армия и чьи владения пострадали бы первыми, высокомерно заявил, что не позволит сжечь ни одного дома. [183] Находясь в той же сатрапии, что и Фарнабаз шестьдесят лет назад, он понимал, что окажется в таком же положении, как тот при натиске Агесилая – «не сможет пообедать в собственной стране». [184] Предложение Мемнона было отвергнуто, и решено было встретить Александра на берегах реки Граник.
Этот незначительный поток, упомянутый в «Илиаде» и увековеченный своей связью с именем Александра, берет начало на одной из вершин горы Ида близ Скепсиса [185] и течет на север в Пропонтиду, впадая в нее несколько восточнее греческого города Пария. Он не отличается большой глубиной: вблизи места, где персы разбили лагерь, его можно было перейти вброд во многих местах; однако правый берег был довольно высоким и крутым, что создавало препятствие для атаки противника. Персы, продвигаясь вперед из Зелеи, заняли позицию у восточного берега Граника, где последние отроги горы Ида спускаются в равнину Адрастеи – греческого города, расположенного между Приапом и Парием. [186]
Тем временем Александр двигался к этой позиции из Арисбы (где он провел смотр своей армии) – в первый [с. 81] день до Перкоты, во второй до реки Практий, в третий до Гермота; по пути он принял добровольную капитуляцию города Приап. Зная, что враг находится недалеко, он выслал вперед разведчиков под командованием Аминты, состоявших из четырех эскадронов легкой кавалерии и одного эскадрона тяжелой македонской (гетайрской) кавалерии. Из Гермота (четвертый день от Арисбы) он двинулся прямо к Гранику, соблюдая строгий порядок: основная фаланга шла в двойной колонне, кавалерия – на каждом фланге, а обоз – в тылу. Подойдя к реке, он сразу же начал готовиться к атаке, хотя Парменион советовал подождать до следующего утра. Хорошо понимая, как и Мемнон на другой стороне, что в открытом бою у персов нет шансов, он решил не дать им возможности отступить ночью.
В построении Александра фаланга (тяжелая пехота) составляла центр. Шесть таксисов (дивизий), из которых она состояла, возглавляли (справа налево): Пердикка, Кен, Аминта (сын Андромена), Филипп, Мелеагр и Кратер. [187] Справа от фаланги располагались гипасписты (легкая пехота) под командованием Никанора (сына Пармениона), затем легкая кавалерия (дротикометатели), пеонийцы и апполонийский эскадрон гетайров под командованием иларха Сократа – все под общим руководством Аминты (сына Аррибея). Наконец, основные силы гетайрской кавалерии, лучники и агрианские метатели дротиков находились под командованием Филоты (сына Пармениона), чей отряд составлял крайний правый фланг. [188] Левый фланг фаланги [с. 82] аналогично прикрывали три отдельных отряда кавалерии и легких войск: сначала фракийцы под командованием Агафона, затем союзная кавалерия под началом Филиппа (сына Менелая) и, наконец, фессалийская кавалерия под командованием Калласа, чей отряд образовывал крайний левый фланг. Сам Александр принял командование правым крылом, а левое поручил Пармениону; под «правым» и «левым» подразумеваются две половины армии, каждая из которых включала три таксиса фаланги и прикрывающую их кавалерию – отдельного центрального командования не было.
На другом берегу Граника персидская кавалерия выстроилась вдоль берега. Мидийцы и бактрийцы находились на правом фланге под командованием Реомифра, пафлагонцы и гирканцы – в центре под началом Арсита и Спифридата, на левом фланге стояли Мемнон и Арсамен со своими отрядами. [189] Персидская пехота, как азиатская, так и греческая, была оставлена в резерве; только кавалерия должна была преградить переправу через реку.
В таком построении обе стороны некоторое время оставались на месте, наблюдая друг за другом в напряженном молчании. [190] Поскольку, в отличие от современных армий, не было ни стрельбы, ни дыма, все детали построения противника были хорошо видны, и персы легко узнали самого Александра на македонском правом фланге – по блеску его доспехов, воинскому облачению и почтительному поведению окружающих. Их главные командиры устремились к своему левому флангу, усилив его основной массой кавалерии, чтобы лично противостоять ему.
Вскоре Александр обратился к войскам с кратким словом ободрения и отдал приказ наступать. Первую атаку он поручил эскадрону гетайров, чья очередь была вести войска в этот день (аполлонийский эскадрон, которым командовал Сократ, но в этот день возглавляемый Птолемеем, сыном Филиппа), поддержанному легкой кавалерией (дротикометателями), пеонийскими метателями (пехотой) и одним отрядом [с. 83] регулярной пехоты, по-видимому, гипаспистов. [191] Затем он сам вошел в реку во главе правой половины армии – кавалерии и пехоты, – которые продвигались под звуки труб и боевые кличи. Поскольку глубина воды в некоторых местах не позволяла идти прямой линией, македонцы корректировали направление, выбирая броды, и сохраняли растянутый фронт, чтобы по возможности выйти на противоположный берег единой линией, а не отдельными колоннами с открытыми флангами для персидской кавалерии. [192] Не только правое крыло под командованием Александра, но и левое под началом Пармениона переходило реку в том же порядке и с теми же предосторожностями.
Передовой отряд под командованием Птолемея и Аминты, достигнув противоположного берега, столкнулся с ожесточенным сопротивлением, сосредоточенным в этом месте. Перед ними оказались Мемнон и его сыновья с лучшими частями персидской кавалерии: одни стояли на вершине берега, откуда метали дротики, другие – у самой воды, чтобы вступить в ближний бой. Македонцы пытались всеми силами закрепиться на берегу и прорваться сквозь персидскую конницу, но безуспешно. Находясь на более низкой позиции и имея ненадежную опору, они не могли добиться успеха, понесли потери и отступили к основным силам, которые Александр уже вел через реку.
Когда он приблизился к берегу, бой вокруг его персоны разгорелся с новой силой. Александр был в первых рядах, и все вокруг воодушевлялись его примером. Конники с обеих сторон сомкнулись в тесной схватке, где исход решала физическая сила и напор людей и лошадей; но македонцы имели большое преимущество, будучи привычны к использованию длинных сарисс, тогда как персы применяли метательные дротики. В конце концов сопротивление было сломлено, и Александр с окружающими его воинами, постепенно оттеснив защитников, выбрался на высокий берег.
На других участках сопротивление было не столь упорным. Левое крыло и центр македонцев, переправлявшиеся одновременно по всему фронту, где это было возможно, одолели персов на склоне и с относительной легкостью вышли на ровную местность. [193] Фактически никакая кавалерия не могла удержаться на берегу против фаланги с ее длинными копьями, если та сохраняла сплошной строй. Успешная переправа македонцев на других участках вынудила персов, сражавшихся с самим Александром на склоне, отступить на равнину.
И здесь, как у воды, Александр был впереди в рукопашной схватке. Его копье сломалось, и он обратился к стоявшему рядом воину – Аретису, одному из конных телохранителей, обычно помогавшему ему садиться на коня, – с просьбой дать другое. Но у того тоже было сломано копье, и он показал Александру обломок, предложив спросить у кого-нибудь еще; тогда коринфянин Демарат, один из находившихся рядом гетайров, передал ему свое оружие.
Вооружившись вновь, Александр устремился на Митридата (зятя [с. 85] Дария), который вел отряд кавалерии в атаку, но сам значительно опередил его. Александр вонзил копье в лицо Митридата и сразил его наповал; затем он повернулся к другому персидскому вождю, Ресаксу, который ударил его мечом по голове, сбил часть шлема, но не пробил его. Александр отомстил, пронзив Ресакса копьем. [194]
Тем временем третий персидский военачальник, Спифридат, оказался прямо за спиной Александра с занесенным мечом. В этот критический момент Клит, сын Дропида – один из ветеранов Филиппа, занимавший высокий пост в македонской армии, – со всей силы ударил по поднятой руке Спифридата и отсек ее, спасая жизнь Александру. Другие знатные персы, родственники Спифридата, яростно бросились на Александра, который получил несколько ударов по доспехам и оказался в серьезной опасности. Но его соратники удвоили усилия, чтобы защитить его и поддержать его отчаянную храбрость.
Именно на этом участке персидская кавалерия была прорвана первой. На левом фланге македонцев фессалийская кавалерия также сражалась храбро и успешно; [195] легкая пехота, смешавшаяся с конницей Александра, нанесла врагу значительный урон. Как только началось бегство персидской кавалерии, оно быстро стало всеобщим. Они обратились в беспорядочное бегство, преследуемые македонцами.
Но Александр и его командиры вскоре остановили погоню, отозвав кавалерию для завершения победы. Персидская пехота, как азиаты, так и греки, оставалась на месте без движения и приказов, наблюдая за кавалерийским боем, который только что закончился для них катастрофой. Александр немедленно обратил внимание на них. [196] Он повел фалангу и гипаспистов в атаку с фронта, в то время как его кавалерия обрушилась на незащищенные фланги и тыл; сам он атаковал с конницей, и под ним убили лошадь.
Одних только его пехотинцев было больше, чем персидских наемников, так что при таком неравенстве исход не вызывал сомнений. Большая часть этих наемников, несмотря на доблестное сопротивление, была изрублена на поле боя. Сообщается, что никто не спасся, кроме 2000 пленных и нескольких человек, спрятавшихся среди трупов. [197]
В этом сокрушительном поражении потери персидской кавалерии в численном выражении были не столь велики – погибло всего 1000 всадников. Но гибель знатных персов, проявивших крайнюю храбрость в схватке с Александром, была ужасающей. Погибли не только упомянутые Митридат, Ресакс и Спифридат, но также Фарнак (шурин Дария), Митробарзан (сатрап Каппадокии), Атизий, Нифат, Петин и другие знатные персы. Арсит, сатрап Фригии, чье безрассудство привело к отвержению совета Мемнона, бежал с поля боя, но вскоре покончил с собой от стыда и отчаяния. [198]
Персидская (или персо-греческая) пехота, хотя, вероятно, большее число ее бойцов спаслось, чем подразумевает Арриан, как боевая сила была уничтожена безвозвратно. В Малой Азии не осталось войск, способных оказать сопротивление.
Потери Александра, как сообщается, были очень малы. Двадцать пять гетайров из отряда Птолемея и Аминты погибли при первой неудачной попытке переправиться через реку. Из остальной кавалерии погибло шестьдесят человек, из пехоты – тридцать. Это общие потери Александра. [199] Указано только число убитых; количество раненых не сообщается, но если предположить, что их было в десять раз больше, общие потери составят 1265 человек. [200]
Если эти цифры верны, сопротивление персидской кавалерии, за исключением участка, где сражался сам Александр, не могло быть серьезным или продолжительным. Но если учесть еще и бой с пехотой, малая величина общих македонских потерь кажется еще более удивительной. Общая численность персидской пехоты оценивается почти в 20 000, большей частью греческих наемников. Из них только 2000 были взяты в плен; почти все остальные (по Арриану) были перебиты.
Однако греческие наемники были хорошо вооружены и вряд ли позволили бы себя уничтожить безнаказанно; более того, Плутарх прямо утверждает, что они отчаянно сопротивлялись и что основные потери македонцы понесли в бою с ними. Поэтому трудно согласовать эти данные с сообщением Арриана. [201]
После победы Александр проявил большую заботу о раненых, которых лично навещал и утешал. В честь двадцати пяти погибших гетайров он приказал воздвигнуть бронзовые статуи работы Лисиппа в Дионе (Македония), где они еще стояли во времена Арриана. Оставшимся в живых родственникам всех погибших он даровал освобождение от налогов и повинностей.
Тела павших были погребены с почестями, включая врагов. Две тысячи греков, служивших персам и попавших в плен, были закованы в цепи и отправлены в Македонию на рабские работы. Александр оправдал это тем, что они сражались на стороне варваров против Греции, нарушив общее решение Коринфского союза.
Одновременно он отправил в Афины триста комплектов доспехов, отобранных из добычи, для посвящения Афине на акрополе с надписью: «Александр, сын Филиппа, и эллины (кроме лакедемонян) приносят эти дары от варваров, обитающих в Азии». [202]
Хотя решение, на которое ссылался Александр, не отражало реальных устремлений Греции и было лишь вынужденной уступкой, он находил удовлетворение в том, чтобы прикрыть свои завоевания идеей общеэллинской миссии. Это также укрепляло его позиции среди греков, которые, как офицеры или солдаты, были единственными, кто мог поддержать Персидскую империю против него.
Его завоевания означали конец подлинного эллинизма, хотя и распространили его внешние формы, особенно греческий язык, на значительную часть Востока. Истинные интересы Греции были скорее на стороне Дария, чем Александра.
Битва при Гранике, начатая Арситом и другими сатрапами вопреки совету Мемнона, была к тому же проведена ими так неумело, что доблесть их пехоты – самого мощного отряда греческих наемников на персидской службе – оказалась бесполезной. Фактически сражалась только персидская кавалерия; [203] пехота была оставлена на окружение и уничтожение.
Ни одна победа не могла быть более решительной или внушающей ужас, чем победа Александра. На поле боя не осталось сил, способных противостоять ему. Впечатление от столь масштабной катастрофы усиливалось двумя обстоятельствами: во-первых, гибелью множества персидских вельмож, что почти воплотило стенания Атоссы, Ксеркса и хора в «Персах» Эсхила [204] после битвы при Саламине; во-вторых, рыцарской и успешной доблестью самого Александра, который, подражая гомеровскому Ахиллесу, не только первым бросился в схватку, но [стр. 89] собственноручно убил двух знатных персов. Подобные подвиги, впечатляющие даже сегодня, в момент свершения должны были оказывать мощнейшее воздействие на воображение современников.
Некоторые из соседних мисийских горцев, хоть и мятежные подданные Персии, спустились, чтобы покориться ему, и им разрешили остаться на своих землях при условии выплаты прежней дани. Жители соседнего греческого города Зелеи, чьи войска сражались на стороне персов, сдались и получили прощение; Александр принял их довод, что они служили лишь по принуждению. Затем он отправил Пармениона штурмовать Даскилий – укреплённую цитадель и резиденцию сатрапа Фригии. Даже этот оплот был оставлен гарнизоном и сдан, несомненно, вместе с немалыми сокровищами. Вся сатрапия Фригии перешла под власть Александра, и для управления ею был назначен Каллас, обязанный собирать ту же дань, что и прежде. [205] Сам Александр двинулся с основными силами на юг, к Сардам – главному городу Лидии и ключевой персидской крепости в Малой Азии. Цитадель Сард, расположенная на высокой крутой скале у подножия горы Тмол, защищённая тройной стеной и сильным гарнизоном, считалась неприступной и вряд ли могла быть взята иначе как после долгой осады, [206] что дало бы время для подхода флота и действий Мемнона. Однако ужас, внушаемый македонским завоевателем, был столь велик, что, когда он оказался в восьми милях от Сард, ему навстречу вышли не только представители знати, но и персидский комендант цитадели Митрин. Город, крепость, гарнизон и казна были сданы без боя. К счастью для Александра, в Азии не нашлось персидских правителей, столь же храбрых и преданных, как Маскам [стр. 90] и Богес после отступления Ксеркса из Греции. [207] Александр обошёлся с Митрином милостиво, даровал сардийцам и прочим лидийцам свободу и право жить по своим законам. Предательство Митрина стало для Александра огромной удачей. Поднявшись в цитадель, он поразился её мощи, поздравил себя с лёгкой победой и приказал возвести там храм Олимпийского Зевса на месте бывшего дворца лидийских царей. Павсаний был назначен комендантом цитадели с пелопоннесским гарнизоном из Аргоса; Асандр – сатрапом Лидии; Никий – сборщиком дани. [208] Дарованная лидийцам свобода, какой бы она ни была, не освободила их от уплаты обычной дани.
Из Сард Александр отправил Калласа, нового сатрапа Геллеспонтской Фригии, и Александра, сына Эропа (заменившего Калласа на посту командира фессалийской конницы), штурмовать Атарней и владения Мемнона на азиатском побережье напротив Лесбоса. Сам же он двинулся к Эфесу, достигнув его на четвёртый день. И в Эфесе, и в Милете – ключевых персидских крепостях на побережье, как Сарды во внутренних районах – внезапная катастрофа при Гранике посеяла неописуемый ужас. Гегесистрат, командир персидского гарнизона (из греческих наёмников) в Милете, отправил Александру письмо с предложением сдать город при его приближении; а гарнизон Эфеса вместе с македонским изгнанником Аминтой погрузился на две триремы в гавани и бежал. Видимо, в городе недавно произошёл переворот: Сирфак и другие олигархи изгнали политических противников, разграбили храм Артемиды, свергли статую Филиппа Македонского и разрушили гробницу освободителя Геропифа на агоре. [209] Некоторые из этой партии, оставленные [стр. 91] гарнизоном, ещё пытались призвать Мемнона, но тот был далеко. Александр вошёл в город без сопротивления, вернул изгнанников, установил демократическое правление и постановил, что дань, прежде уплачиваемая персам, теперь будет идти храму Артемиды Эфесской. Сирфак и его семья укрылись в храме, но были вытащены народом и забиты камнями. Расправа продолжилась бы, если бы Александр не остановил толпу, проявив благородную умеренность. [210]
Овладев Эфесом, Александр соединился со своим флотом под командованием Никанора и получил предложения о капитуляции от двух соседних городов – Магнесии и Тралл. Для их занятия он отправил Пармениона с 5000 пехотинцев (половина – македонцы) и 200 всадников-гетайров; одновременно Антимаха с таким же отрядом послал на север освобождать города эолийских и ионийских греков. Тому было приказано свергать олигархические режимы, служившие персидскому господству с помощью наёмных гарнизонов, передавать власть гражданам и отменять дань. Сам Александр, приняв участие в торжественной процессии к храму Артемиды Эфесской с войском в полном вооружении, двинулся на юг к Милету; флот Никанора шёл туда же морем. [211] Он ожидал, что Милет сдастся так же легко, как Эфес. Но его надежды не оправдались: Гегесистрат, командовавший гарнизоном, хотя и предлагал сдаться сразу после Граника, теперь передумал и решил обороняться. К городу приближался мощный персидский флот [212] [стр. 92] – 400 финикийских и кипрских боевых кораблей с опытными экипажами.
Этот флот, который ещё несколько недель назад мог бы помешать Александру переправиться в Азию, теперь оставался последней надеждой остановить его стремительные завоевания. Какие меры приняли персидские военачальники после поражения при Гранике – неизвестно. Многие бежали с Мемноном в Милет; [213] и теперь, в отчаянном положении, они, вероятно, согласились подчиниться ему как единственной надежде на спасение, хотя в день битвы пренебрегли его советом. Сопротивлялись ли города в княжестве Мемнона (Атарнее) македонцам – неясно. Однако его интересы были настолько связаны с персидскими, что он отправил жену и детей в качестве заложников, чтобы Дарий доверил ему верховное командование. Вскоре такой приказ был получен; [214] но при первом появлении флота Мемнон, хотя, вероятно, был на борту, ещё не командовал им.
Флот опоздал помочь в обороне Милета. За три дня до его прибытия македонский адмирал Никанор с 160 кораблями занял остров Ладе, контролировавший гавань. Александр без боя взял внешнюю часть города и готовился штурмовать внутреннюю, переправив 4000 солдат на Ладе, когда показался персидский флот, вынужденный встать у мыса Микале. Парменион советовал дать морское сражение, предлагая лично участвовать, но Александр отказался, указав на неопытность македонских моряков и риск восстания в Греции в случае поражения. Кроме того, их мнения разошлись в толковании знамения: Парменион видел орла у кормы корабля, предвещавшего победу на море, но Александр заявил, что орёл на земле сулит победу на суше, а флот будет побеждён действиями с берега. [215] Этот спор между опытными полководцами весьма показателен, демонстрируя как религиозность эпохи, так и гибкость толкований, служащих противоположным выводам. В древнем мире умение истолковать знамения было крайне важным.