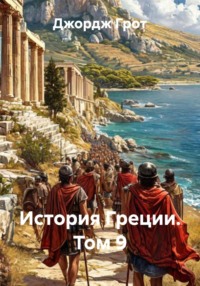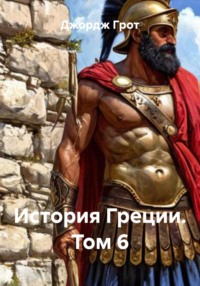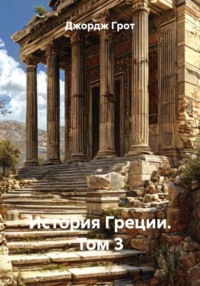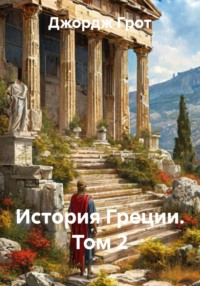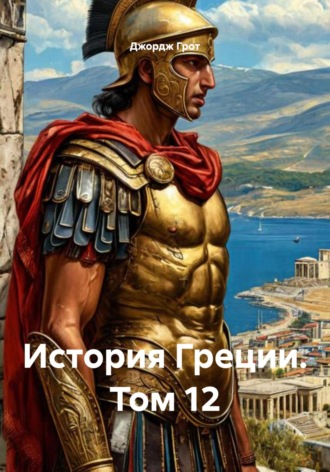
Полная версия
История Греции. Том 12
Македонская фаланга, именуемая пезетайрами [125] или пешими спутниками царя, составляла основную массу туземной [стр. 60] пехоты, в отличие от специальных армейских корпусов. Наибольшее подразделение, упоминаемое при Александре и находившееся под командованием генерала дивизии, называлось таксисом. Сколько всего было таких таксисов, мы не знаем; первоначальная азиатская армия Александра (не считая оставленных на родине сил) включала шесть из них, что, по-видимому, соответствовало территориальному делению страны: орестаи, линкесты, элимиоты, тимфеи и др. [126] Тактики приводят систематическую шкалу распределения (начиная с низшей единицы – лоха в 16 человек, с последовательным умножением на два вплоть до четверной фаланги в 16 384 человека), пронизывающую всю македонскую армию. Среди этих подразделений наиболее фундаментальным и постоянным является синтагма, состоявшая из 16 лохов. Образуя таким образом квадрат в 16 человек по фронту и в глубину, или 256 человек, она одновременно представляла собой отдельное постоянное формирование или батальон, к которому придавались пять сверхштатных лиц: знаменосец, замыкающий, трубач, вестник и слуга или ординарец. [127] Две такие синтагмы составляли отряд в 512 человек, называемый пентакосиархией, который во времена Филиппа, как утверждается, был обычным полком, действовавшим под отдельным командованием; однако Александр удвоил несколько таких отрядов при реорганизации армии в Сузах, [128] создав полки по 1024 человека, каждый под командованием хилиарха и включавший четыре синтагмы. Вся эта систематическая организация македонских военных сил в мирное время, по-видимому, была создана гением Филиппа. В реальных походах численная точность соблюдаться не могла; полк или дивизия не всегда насчитывали фиксированное [стр. 61] количество людей. Однако что касается построения, глубина в 16 шеренг для рядов фалангитов считалась важной и характерной, [129] возможно, необходимой для придания войскам уверенности. Это была значительно большая глубина, чем у греческих гоплитов, и превзойдена она была лишь фиванцами.
Однако фаланга, будучи ключевым элементом, была лишь одной из многих составляющих в разнообразной военной организации, созданной Филиппом. Она не была предназначена и не годилась для действий в одиночку; будучи неповоротливой при смене фронта для защиты флангов или тыла, она также не могла адаптироваться к неровной местности. Филипп организовал другой род пехоты, называемый гипаспистами – щитоносцами или гвардией; [130] изначально немногочисленные и использовавшиеся для личной защиты царя, они позже были расширены в несколько отдельных армейских корпусов. Эти гипасписты или гвардейцы были легкой пехотой линии; [131] они были гоплитами, сохранявшими строй и предназначенными для ближнего боя, но вооруженными легче и более приспособленными к различным условиям и позициям, чем фаланга. Они, по-видимому, сражались с одноручным копьем и щитом, как греки, а не с двуручной сариссой фалангитов. Они занимали промежуточное положение между тяжелой пехотой фаланги в строгом смысле – и пельтастами и прочими легкими войсками. Александр в своих поздних кампаниях распределил их по хилиархиям (как было организовано это распределение ранее, у нас нет точных сведений), по меньшей мере три, а возможно, и больше. [132] Мы видим, что он использовал их в наступательных [стр. 62] и агрессивных действиях: сначала легкие войска и кавалерия начинали атаку; затем гипасписты развивали успех; наконец, фаланга подходила для их поддержки. Гипасписты также применялись для штурма укрепленных позиций и быстрых ночных маршей. [133] Каково было их общее число, мы не знаем. [134]
Помимо фаланги и гипаспистов (гвардии), македонская армия, использовавшаяся Филиппом и Александром, включала множество иррегулярных войск – частично местных македонян, частично иностранцев: фракийцев, пеонов и др. Они делились на разные категории: пельтасты, метатели дротиков и лучники. Лучшими среди них были агриане, пеонское племя, искусное в обращении с дротиком. Все они активно использовались Александром на флангах и впереди тяжелой пехоты или смешивались с кавалерией – а также для преследования разбитого врага.
Наконец, кавалерия в армии Александра также была превосходна – по меньшей мере равная, а возможно, даже превосходившая по эффективности его лучшую пехоту. [135] Я уже упоминал, что кавалерия была избранной туземной силой Македонии задолго до правления Филиппа, который ее расширил и усовершенствовал. [136] Тяжелая кавалерия, состоявшая целиком или преимущественно из местных македонян, была известна под названием гетайров (спутников). Кроме того, существовала новая, более легкая разновидность кавалерии, по-видимому, введенная Филиппом и называвшаяся сариссофорами, или уланами, использовавшимися подобно казакам для передовых постов или разведки местности. Сарисса, которую они носили, вероятно, была значительно короче, чем у фаланги; [стр. 63] но она была длиннее, чем ксистон (метательное копье), использовавшийся тяжелой кавалерией для ближнего боя. Арриан, описывая армию Александра при Арбелах, перечисляет восемь отдельных эскадронов этой тяжелой кавалерии – или кавалерии гетайров; однако общее число таких эскадронов в македонской армии при вступлении Александра на престол неизвестно. Среди эскадронов, по крайней мере несколько (если не все) были названы по городам или областям страны – Боттиэя, Амфиполь, Аполлония, Анфем и др.; [137] был один или несколько, выделявшихся как царский эскадрон – агема или ведущий отряд кавалерии – во главе которого Александр обычно атаковал, находясь в первых рядах сражающихся. [138]
Распределение кавалерии по эскадронам было унаследовано Александром при вступлении на престол; однако он изменил его при реорганизации армии (в 330 г. до н. э.) в Сузах, разделив эскадрон на два лоха и установив лох как основное подразделение кавалерии, как это всегда было для пехоты. [139] Его реформы свелись к сокращению основной кавалерийской единицы с эскадрона до полуэскадрона или лоха, в то время как пехота сводилась в более крупные формирования – от когорт по 500 человек к когортам по 1000.
Среди гипаспистов или гвардейцев также существовала агема – избранная когорта, которая чаще других начинала бой. Еще более элитным подразделением были телохранители – небольшая группа проверенных и доверенных людей, лично известных Александру, постоянно находившихся при его особе и выполнявших роль адъютантов или командиров для специальных заданий. Эти телохранители, по-видимому, выбирались из числа царских пажей или юношей – института, впервые учрежденного Филиппом и демонстрирующего его усилия по вовлечению знатных македонян в военную организацию и зависимость от своей персоны. Царские юноши, сыновья знатных лиц по всей Македонии, были взяты Филиппом на службу и постоянно проживали при нем для выполнения обязанностей по дворцовому обслуживанию и сопровождению. Они несли постоянную охрану его дворца, сменяясь в дневных и ночных караулах; они принимали от конюхов его коня, помогали ему сесть и сопровождали на охоту: они представляли лиц, желавших аудиенции, и впускали его любовниц ночью через особую дверь. Они имели привилегию обедать с ним, а также не подвергаться телесным наказаниям без его особого приказа. [140] Точное число этой группы неизвестно; [стр. 65] но оно, должно быть, было немалым, поскольку Аминта привел сразу пятьдесят таких юношей из Македонии, чтобы присоединиться к Александру и пополнить отряд в Вавилоне. [141] В то же время смертность среди них, вероятно, была значительной, поскольку, сопровождая Александра, они терпели даже больше, чем невероятные тяготы, которые он накладывал на себя. [142] Обучение в этом корпусе было подготовкой сначала для становления телохранителями Александра – затем для назначения на важные военные посты. Таким образом, это был первый этап карьеры для большинства диадохов или высших офицеров Александра, которые после его смерти разделили его завоевания на царства.
Именно так Филипп расширил и разнообразил туземные македонские силы, включавшие к моменту его смерти: 1. Фалангу, пеших спутников или основную массу тяжелой пехоты, обученной владению длинной двуручной сариссой – 2. Гипаспистов, или легковооруженные гвардейские корпуса пехоты – 3. Гетайров, или тяжелую кавалерию, древнюю местную силу, состоявшую из зажиточных македонян – 4. Легкую кавалерию, улан или сариссофоров. – К ним присоединялись ценные иностранные вспомогательные войска. Фессалийцы, частично покоренные, частично привлеченные Филиппом, предоставили ему тяжелую кавалерию, не уступавшую македонской. Из различных частей Греции он набирал гоплитов-добровольцев, вооруженных большими щитами и одноручными копьями. От воинственных племен фракийцев, пеонов, иллирийцев и др., которых он покорил вокруг, он получал контингенты легких войск различного типа: пельтастов, лучников, метателей дротиков и т. д., – все превосходные в своем роде и крайне полезные для его комбинаций в сочетании [стр. 66] с тяжелыми массами. Наконец, Филипп завершил свои военные приготовления организацией эффективного осадного парка для штурма крепостей, равно как и для полевых сражений; запаса метательных и таранных машин, превосходивших все существовавшее в то время. Мы видим, что Александр использовал эту артиллерию уже в первый год своего правления, в кампании против иллирийцев. [143] Даже в самых дальних походах в Индию он либо возил ее с собой, либо имел средства для строительства новых машин на месте. Не было части его военного оснащения, более важной для его завоеваний. Победоносные осады Александра – одни из самых памятных его подвигов.
Ко всей этой обширной, многообразной и систематизированной действующей армии следует добавить гражданские учреждения, склады, арсеналы, обеспечение конским составом, инструкторов и адъютантов и т. д., необходимые для поддержания ее в постоянной готовности и эффективности. Ко времени прихода Филиппа к власти Пелла была незначительным местом; [144] к моменту его смерти она стала не только укрепленной крепостью и хранилищем царской казны, но и постоянным центром, военным министерством и учебным лагерем величайшей военной силы того времени. Военные реестры, как и традиции македонской дисциплины, сохранялись там вплоть до падения монархии. [145] Филипп посвятил свою жизнь созданию этого мощного инструмента господства. Его доходы, значительные как от рудников, так и от завоеванных территорий, были истощены этой работой, так что к моменту смерти он оставил долг в 500 талантов. Но его сын Александр получил готовый инструмент с отличными офицерами и опытными ветеранами для первых рядов своей фаланги. [146]
Эта научная организация военной силы в крупном масштабе, со всеми разновидностями вооружения и снаряжения, скоординированными для одной цели, – великий факт македонской истории. Ничего подобного по масштабу и сложности прежде не существовало. Македонцы, подобно эпиротам и этолийцам, не имели других способностей или отличительных качеств, кроме воинственности. Их грубые и разрозненные племена не проявляли определенных политических институтов и слабого чувства национального братства; их объединение было в основном временным военным союзом под началом царя. Филипп, сын Аминты, первым организовал это военное единство в систему, действующую постоянно и эффективно, добившись с ее помощью завоеваний, которые создали у македонцев общую гордость превосходством в оружии, заменявшую политические институты или национальность. Эта гордость была еще более возвышена поистине сверхчеловеческой карьерой Александра. Македонское царство было не чем иным, как хорошо слаженной военной машиной, демонстрирующей непреодолимое превосходство грубых людей, обученных оружию и ведомых способным полководцем, не только над недисциплинированными толпами, но и над свободным, мужественным и дисциплинированным гражданством с высокоодаренным интеллектом.
В течение зимы 335–334 гг. до н. э., после разрушения Фив и возвращения Александра из Греции в Пеллу, были завершены последние приготовления к азиатскому походу. Македонская армия с вспомогательными контингентами, предназначенными для этой экспедиции, собралась ранней весной. Антипатр, один из старейших и способнейших офицеров Филиппа, был назначен наместником Македонии во время отсутствия царя. Ему был оставлен военный отряд, составлявший, по данным, 12 000 пехотинцев и 1500 кавалеристов, [147] для подавления городов Греции, противодействия персидскому флоту и сдерживания недовольства внутри страны. Такое недовольство могло подогреваться влиятельными македонянами или претендентами на престол, особенно учитывая, что у Александра не было прямого наследника: и нам рассказывают, что Антипатр и Парменион советовали отложить поход до тех пор, пока молодой царь не оставит после себя наследника своего рода. [148] Александр отверг эти представления; однако он не пренебрег мерами по уменьшению опасностей дома, казнив тех, кого особенно опасался или не доверял, особенно родственников последней жены Филиппа Клеопатры. [149] Из зависимых племен наиболее энергичные вожди сопровождали его армию в Азию – по собственному желанию или по его требованию. После этих предосторожностей спокойствие Македонии было доверено благоразумию и верности Антипатра, которые дополнительно обеспечивались тем, что трое его сыновей сопровождали армию и самого царя. [150] Хотя и непопулярный в поведении, [151] Антипатр исполнял обязанности своей крайне ответственной должности с усердием и умением; несмотря на опасную враждебность Олимпиады, против которой он отправлял много жалоб Александру в Азию, в то время как она со своей стороны писала частые, но безрезультатные письма с целью подорвать его доверие у сына. После долгого периода неизменного доверия Александр в последние годы жизни начал испытывать к Антипатру неприязнь и недоверие. Он всегда относился к Олимпиаде с величайшим уважением; однако пытался удерживать ее от вмешательства в политические дела и иногда жаловался на ее властные требования и насилие. [152]
Армия, предназначенная для похода в Азию, собравшись в Пелле, была проведена самим Александром сначала в Амфиполь, где перешла Стримон; затем вдоль прибрежной дороги к реке Нест и городам Абдера и Маронея; далее через Фракию, пересекая реки Гебр и Мелас; наконец, через Фракийский Херсонес в Сест. Здесь его встретил флот, состоявший из 160 триер, а также множества торговых судов; [153] значительную часть его составляли контингенты, предоставленные Афинами и греческими городами. [154] Переправа всей армии – пехоты, конницы и осадных машин – на кораблях через пролив из Сеста в Европе в Абидос в Азии была организована Парменионом и осуществлена без затруднений и сопротивления.
Однако сам Александр, отделившись от армии в Сесте, отправился в Элей, южную оконечность Херсонеса. Здесь находились святилище и священный участок героя Протесилая, убитого Гектором; он был первым греком (согласно легенде о Троянской войне), ступившим на берег Трои. Александр, чье воображение тогда было полно гомеровских воспоминаний, принес жертву герою, молясь, чтобы его собственная высадка завершилась более благоприятно.
Затем он переплыл пролив на флагманской триере, лично управляя рулем, к месту высадки близ Илиона, называемому Гаванью ахейцев. На середине пролива он принес в жертву быка, совершив возлияния из золотой чаши в честь Посейдона и нереид. Сам, облаченный в полные доспехи, он первым (как [с. 70] Протесилай) ступил на азиатский берег, но не встретил там врага, подобного Гектору. Отсюда, поднявшись на холм, где стоял Илион, он принес жертву покровительнице города, богине Афине, и оставил в ее храме свои доспехи, взяв взамен некоторые из оружия, которое, как говорили, носили герои Троянской войны; впоследствии он приказывал нести их перед собой в битвах.
Среди других реальных или предполагаемых памятников этой легенды жители Илиона показали ему дом Приама с алтарем Зевса Геркея, где, по преданию, несчастный старый царь был убит Неоптолемом. Поскольку Александр считал Неоптолема своим предком, он чувствовал себя объектом неутоленного гнева Приама и потому принес ему жертву на том же алтаре, чтобы искупить вину и примириться. На могиле и памятной колонне Ахилла, отца Неоптолема, он не только возложил венок, но и совершил традиционный обряд: умастив себя маслом, пробежал вокруг нее обнаженным, восклицая, как он завидует судьбе Ахилла, который при жизни был благословлен верным другом, а после смерти – великим поэтом, воспевавшим его подвиги.
Наконец, в память о переправе Александр воздвиг постоянные алтари в честь Зевса, Афины и Геракла – как на европейском берегу, откуда отправилась его армия, так и на азиатском, где она высадилась. [155]
[с. 71] Действия Александра на незабываемом месте Илиона интересны тем, что раскрывают одну из сторон его величественного характера – склонность к легендарным симпатиям и религиозным чувствам, в которых заключалась его единственная аналогия с греками. Юный македонский царевич не обладал тем чувством взаимных прав и обязанностей, которое отличало свободных греков гражданских общин. Но во многом он был воплощением героических греков, [156] своих воинственных предков из легенд – Ахилла, Неоптолема и других представителей рода Эакидов, несравненных в проявлениях силы: человеком необузданных порывов во всех направлениях, то великодушным, то мстительным; пылким в личных привязанностях, как в любви, так и в ненависти, но прежде всего поглощенным неутолимой жаждой битв, страстью к завоеваниям и стремлением любой ценой утвердить свое превосходство над другими – «Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis» («Отрицает, что права для него созданы, все присваивает силой»). Он гордился не только полководческим искусством и умением направлять действия солдат, но и личной отвагой гомеровского вождя, первым бросавшегося в опасность и тяготы.
К качествам, сходным с ахилловыми, Александр добавил одно свойство гораздо более высокого порядка. Как полководец, он превосходил свою эпоху в дальновидных и даже стратегических комбинациях. При всей своей безудержной отваге и оптимизме он никогда не упускал из виду систематических военных предосторожностей. Этому он в значительной степени научился у греков, применивших интеллект к военному делу, хотя и внес множество собственных усовершенствований. Но характер и склонности, с которыми он отправился в Азию, носили черты – и яркие, и отталкивающие – скорее Ахилла, чем Агесилая или Эпаминонда.
[с. 72] Армия, пересчитанная на азиатском берегу после переправы, насчитывала в общей сложности 30 000 пехотинцев и 4500 всадников, распределенных следующим образом:
Пехота
Македонская фаланга и гипасписты – 12 000
Союзники – 7 000
Наемники – 5 000
Под командованием Пармениона – 24 000
Одриссы, трибаллы (фракийцы) и иллирийцы – 5 000
Агриане и лучники – 1 000
Всего пехоты – 30 000
Кавалерия
Македонская тяжелая (под командой Филоты, сына Пармениона) – 1 500
Фессалийская (также тяжелая, под командой Калла) – 1 500
Разнородная греческая (под командой Эригия) – 600
Фракийская и пеонийская (легкая, под командой Кассандра) – 900
Всего кавалерии – 4 500
Это, по-видимому, наиболее достоверная численность первой вторгшейся в Азию армии Александра. Однако существовали и другие данные, согласно которым она достигала 43 000 пехотинцев и 4000 всадников. [157] Помимо этих войск, у Александра был эффективный парк метательных и осадных машин, которые вскоре вступили в действие.
Что касается финансов, то военная казна Александра, частично истощенная щедрыми подарками македонским офицерам, [158] была столь же скудна, как у Наполеона Бонапарта при начале его блистательной кампании 1796 года в Италии. Согласно Аристобулу, у него было всего 70 талантов; по другим данным – средств хватало лишь на 30 дней содержания армии. Более того, он даже не смог собрать вспомогательные войска и полностью экипировать армию, не влезши в долг в 800 талантов, помимо 500 талантов, оставшихся от его отца Филиппа. [159] Хотя Плутарх [160] удивляется малочисленности сил, с которыми Александр задумал столь великие предприятия, на самом деле его пехота значительно превосходила любые войска, которые персы могли ему противопоставить; [161] не говоря уже о дисциплине и организации, превосходивших даже греческих наемников, составлявших единственную боеспособную пехоту на персидской службе. Его кавалерия, хотя и уступала в численности, превосходила персидскую по качеству и мощи в ближнем бою.
Большинство офицеров, занимавших важные командные посты в армии Александра, были коренными македонцами. Его близкий друг Гефестион, а также телохранители Леоннат и Лисимах происходили из Пеллы; Птолемей, сын Лага, и Пифон были эордейцами из Верхней Македонии; Кратер и Пердикка – из области Верхней Македонии, называемой Орестидой; [162] Антипатр с сыном Кассандром, Клит, сын Дропида, Парменион с двумя сыновьями Филотой и Никанором, [стр. 74] Селевк, Кен, Аминта, Филипп (эти два последних имени носили несколько человек), Антигон, Неоптолем, [163] Мелеагр, Певкест и другие – все они, по-видимому, были коренными македонцами. Все или большинство из них прошли военную подготовку при Филиппе, в чьей службе особенно высоких чинов достигли Парменион и Антипатр.
Среди множества греков на службе у Александра лишь немногие занимали важные должности. Медий, фессалиец из Лариссы, входил в круг его близких друзей; но самым способным и выдающимся из всех был Эвмен, уроженец Кардии на Херсонесе Фракийском. Эвмен, сочетавший прекрасное греческое образование с физической активностью и предприимчивостью, ещё в молодости привлёк внимание Филиппа и был назначен его секретарём. После семи лет службы, вплоть до смерти Филиппа, он сохранил должность главного секретаря при Александре на протяжении всей жизни царя. [164] Он вёл большую часть переписки Александра, а также ежедневные записи его деяний, известные как «Царские дневники» (Ephemerides). Хотя его обязанности носили в основном гражданский характер, он не менее ярко проявил себя и как военачальник. Иногда получая высокие военные назначения, он удостаивался от Александра значительных наград и знаков уважения. Однако, несмотря на эти выдающиеся качества – или, возможно, именно из-за них – он стал объектом явной зависти и неприязни [165] со стороны македонцев – от друга Александра Гефестиона и его главного оруженосца Неоптолема до простых солдат фаланги. Неоптолем презирал Эвмена как «мирного писца». Надменное презрение, с которым македонцы теперь смотрели на греков, стало яркой чертой победоносной армии Александра, а также новым явлением в истории – ответом на древнеэллинские настроения, в которых ещё несколько лет назад пребывал Демосфен по отношению к македонцам. [166]
[стр. 75] Хотя Александру позволили высадиться в Азии без сопротивления, армия персидских сатрапов уже собралась в нескольких днях марша от Абидоса. После повторного завоевания Египта и Финикии около восьми-девяти лет назад персидским царём Охом, могущество империи восстановилось до уровня, сравнимого с любым периодом после отступления Ксеркса из Греции. Успехи персов в Египте были достигнуты в основном благодаря греческим наёмникам под командованием родосского полководца Ментора, который, пользуясь влиянием евнуха Багоя, доверенного министра Оха, получил не только щедрые дары, но и назначение военачальником на Геллеспонте и малоазийском побережье. [167] Он добился возвращения своего брата Мемнона, который вместе со своим зятем Артабазом был вынужден покинуть Азию после неудачного восстания против персов и нашёл убежище у Филиппа. [168] Кроме того, он подчинил силой или хитростью различных греческих и малоазийских правителей на побережье, включая знаменитого Гермия, друга Аристотеля, владевшего укреплённым пунктом Атарней. [169] Эти успехи Ментора относятся примерно к 343 г. до н. э. Он и его брат Мемнон после него активно поддерживали власть персидского царя в районах близ Геллеспонта. Вероятно, именно они отправили войска через пролив как для спасения осаждённого Филиппом Перинфа, так и для действий против этого царя в других частях [стр. 76] Фракии; [170] именно они арестовали малоазийского правителя, интриговавшего в пользу вторжения Филиппа в Азию, и отправили его пленником ко двору, а также направили туда же афинских послов, просивших помощи против Филиппа. [171]
Ох, хотя и успешный в восстановлении персидского господства, был кровавым тираном, уничтожавшим свою семью и придворных. Около 338 г. до н. э. он умер, отравленный евнухом Багоем, который возвёл на престол Арса, одного из сыновей царя, убив остальных. Однако два года спустя Багой заподозрил Арса в нелояльности и также убил его вместе со всеми детьми, не оставив в живых ни одного прямого потомка царского рода. Затем он возвёл на престол своего друга Дария Кодомана (потомка одного из братьев Артаксеркса Мемнона), который прославился в недавней войне против кадусиев, убив в единоборстве грозного вражеского воина. Однако вскоре Багой попытался отравить и Дария, но тот, раскрыв замысел, заставил его самого выпить смертельный напиток. [172] Несмотря на эти убийства и смену династии, что Александр впоследствии ставил в вину Дарию, [173] власть последнего, по-видимому, была признана по всей Персидской империи без серьёзных сопротивлений.