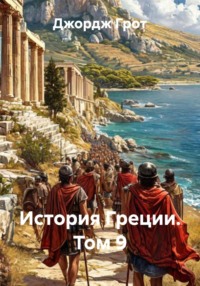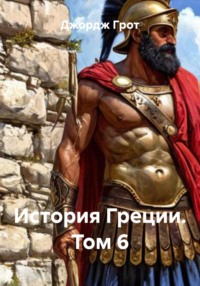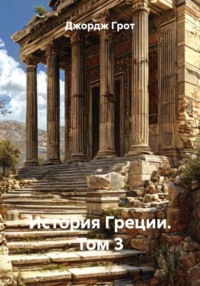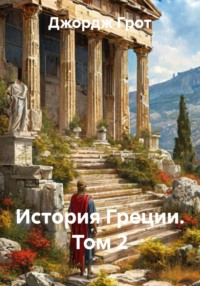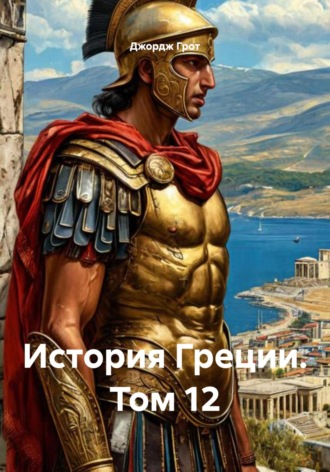
Полная версия
История Греции. Том 12
Александр разделил армию на три части: одна под командованием Пердикки и Аминты атаковала внешнее укрепление, вторая сражалась с фиванцами, совершившими вылазку, а третья оставалась в резерве. Бой между второй частью македонцев и фиванцами у ворот был настолько ожесточенным, что успех одно время казался сомнительным, и Александру пришлось ввести резервы. Первый успех македонцев был достигнут Пердиккой, [91] который с помощью отряда Аминты, а также агрианского полка и лучников захватил первое из двух внешних укреплений, а также потерну, оставленную без охраны. Его войска также взяли штурмом второе укрепление, хотя сам он был тяжело ранен и унесен в лагерь.
Здесь фиванские защитники бежали обратно [стр. 40] в город по ложбине, ведущей к храму Геракла, преследуемые легкой пехотой, опережавшей остальных. Однако фиванцы вскоре контратаковали, отбросив их с потерей их командира Еврибота и семидесяти убитых. Преследуя лучников, ряды фиванцев расстроились, и они не смогли противостоять атаке македонской гвардии и тяжелой пехоты, подошедших на подмогу. Они были разбиты и оттеснены в город, а их отступление стало еще более беспорядочным из-за вылазки македонского гарнизона из Кадмеи.
Победив на этом направлении, македонцы заставили фиванцев, сражавшихся у ворот, отступить, и наступающие войска ворвались в город вместе с ними. Однако внутри города бои продолжались: фиванцы сопротивлялись организованно, пока могли, а будучи рассеяны, сражались даже в одиночку. Никто из воинов не просил пощады; большинство погибло на улицах, но нескольким конным и пешим удалось прорваться на равнину и спастись.
Бой превратился в резню. Македонцы и их пеонийские союзники были разъярены упорным сопротивлением, а греческие вспомогательные отряды – фокейцы, орхоменцы, теспийцы, платейцы – мстили за старые и тяжкие обиды, причиненные Фивами. Их ярость вылилась в беспорядочную бойню всех, кто попадался на пути, без различия возраста или пола – стариков, женщин, детей в домах и даже в храмах. [стр. 41] Это массовое убийство сопровождалось, конечно, грабежом и насилием, которыми победители обычно вознаграждают себя. [92]
Более пятисот македонцев, как утверждается, погибли, а фиванцев – шесть тысяч. Было собрано тридцать тысяч пленных. [93] Судьбу этих пленных и самого города Александр предоставил решить орхоменцам, платейцам, фокейцам и другим греческим союзникам, участвовавшим в штурме. Он, несомненно, заранее знал, каков будет их приговор. Они постановили:
– Город Фивы должен быть стерт с лица земли.
– Только Кадмея должна сохраниться как македонский гарнизон.
– Земли Фив должны быть разделены между союзниками.
– Орхомен и Платеи должны быть восстановлены и укреплены.
– Все пленные фиванцы – мужчины, женщины и дети – должны быть проданы в рабство, за исключением жрецов и жриц, а также тех, кто связан узами гостеприимства с Филиппом или Александром, или был проксенами македонцев.
– Бежавшие фиванцы объявляются вне закона и подлежат казни везде, где будут найдены.
– Любому греческому городу запрещается давать им убежище. [94]
Этот жестокий приговор, несмотря на просьбу фиванца [95] Клеада о милосердии, был вынесен греческими союзниками Александра и исполнен им самим, добавившим лишь одно исключение: он оставил дом Пиндара нетронутым и пощадил потомков поэта.
С этими оговорками Фивы были стерты с земли. Их земли разделили между восстановленными Орхоменом и Платеями. Ничто, кроме македонского гарнизона в Кадмее, не напоминало о месте, где некогда стоял глава Беотийского союза. Пленные были проданы, выручив 440 талантов; высокие цены предлагались из-за вражды к городу. [96]
Диодор утверждает, что этот приговор был вынесен общегреческим синодом. Но нет оснований верить, что этот синод, сколь бы покорным он ни был под давлением Александра, мог одобрить уничтожение одного из древнейших и славнейших городов Эллады. Арриан же сообщает, что вопрос решали лишь греческие союзники, участвовавшие в штурме, [97] и приговор отражал ненависть орхоменцев, платейцев и других.
Бесспорно, эти города пострадали от Фив, и для них возмездие было заслуженным. Но те, кто (как пишет Арриан [98]) видел в катастрофе божественную кару за союз Фив с Ксерксом против Греции полтора века назад, забывали, что не только орхоменцы, но и предшественник Александра, македонский царь-тезка, служили в армии Ксеркса вместе с фиванцами.
Арриан тщетно пытается переложить вину за это беспрецедентное разрушение с Александра на малые беотийские города. По его словам, жестокость превзошла лишь уничтожение тридцати двух свободных халкидских городов Филиппом тринадцатью годами ранее.
Ненависть беотийцев использовалась Александром как предлог для расправы, удовлетворявшей его гордость (уничтожение дерзкого врага) и политику (устрашение остальных греков). [99] Однако позже он сожалел об этом. Разрушение города оскорбляло не только людей, но и богов, упраздняя их культы. Позже Александр приносил жертвы в Илионе, [100] чтобы умилостивить Приама, разгневанного на его род как потомков убийцы Неоптолема. Так и разрушение Фив навлекло на него гнев Диониса, родившегося в этом городе. Александр считал, что именно Дионис наслал на него пьяную ярость, в которой он убил Клита, и отказал ему в дальнейшем походе в Индию. [101]
Если сам Александр раскаялся, то другие осуждали его еще сильнее. Через несколько лет после его смерти македонец Кассандр, сын Антипатра, восстановил Фивы.
Но в тот момент гибель города вселила ужас в греческие полисы. Все спешили замириться с завоевателем. Аркадский контингент не только вернулся с Истма, но и приговорил своих вождей к смерти. Элейцы вернули из изгнания промакедонских лидеров. Каждое племя этолийцев отправило послов к Александру с мольбой о прощении.
В Афинах в день падения Фив шло великое празднество Элевсинской Деметры с процессией из Афин в Элевсин, хотя до осажденного города было всего два дня пути. Узнав о катастрофе, афиняне прервали праздник, укрылись за стенами [102] и, несмотря на страх перед Александром, предоставили убежище фиванским беженцам, нарушив его эдикт.
Особенно опасались Демосфен, Ликург, Харидем и другие ярые противники Македонии, убеждавшие афинян поддержать Фивы. Но даже под угрозой расправы город не отказал несчастным изгнанникам.
[стр. 45] Вскоре после этого прибыли послы от Александра с грозным письмом, формально требуя выдачи восьми или десяти ведущих афинских граждан – Демосфена, Ликурга, Гиперида, Полиевкта, Мерокла, Диотима, [103] Эфиальта и Харидема. Первые четверо были известными ораторами, последние двое – военачальниками; все – ярые сторонники антимакедонской политики. В своем письме Александр обвинял этих десятерых в развязывании битвы при Херонее, в принятии оскорбительных для Македонии решений после смерти Филиппа и даже в недавних враждебных действиях фиванцев. [104]
Этот судьбоносный ультиматум, затрагивающий само право свободной речи и публичных дебатов в Афинах, был вынесен на народное собрание. Подобное требование только что предъявили фиванцам, и последствия отказа были очевидны – уничтожение их города и угрозы завоевателя. Даже в таких испытаниях ни ораторы, ни народ не проявили малодушия – это известный факт, хотя, в отличие от Ливия, мы не имеем доступа к речам, произнесенным в ходе дебатов. [105]
Демосфен, настаивая, что судьба граждан неотделима от судьбы тех, кого требуют выдать, якобы привел в своей речи старую басню о волке, потребовавшем у овец выдать сторожевых псов как условие мира, а затем немедленно растерзавшем беззащитных овец. Он и его товарищи по несчастью просили защиты у народа, [стр. 46] ибо лишь за его интересы навлекли на себя гнев завоевателя.
Фокион, напротив, сначала молчавший и выступивший лишь под давлением народа, утверждал, что сопротивляться Александру сил нет и требуемых лиц необходимо выдать. Он даже обратился к ним лично, напомнив о самопожертвовании дочерей Эрехтея из афинских легенд, и призвал их добровольно сдаться, чтобы избежать общей катастрофы. Он добавил, что сам рад был бы отдать свою жизнь или жизнь лучшего друга, если бы это спасло город. [106]
Ликург, один из требуемых ораторов, резко и гневно ответил на речь Фокиона, и народ поддержал его, отвергнув совет Фокиона. Благодаря мужественному патриотизму в этот критический момент было постановлено не выдавать требуемых лиц. [107]
По предложению Демада к Александру отправили посольство, умоляя его пощадить десятерых и обещая судить их, если против них будут доказательства. Демад, якобы получивший от Демосфена взятку в пять талантов, возглавил миссию. Но Александр сначала был непреклонен, отказался даже выслушать послов и настаивал на своем требовании. Лишь второе посольство во главе с Фокионом смягчило его. Он согласился отозвать требование, удовлетворившись изгнанием Харидема и Эфиальта – двух антимакедонских военачальников. Оба они, а возможно, и другие афиняне, отправились в Азию, где поступили на службу к Дарию. [108]
[стр. 47] В планы Александра не входила осада Афин, которая могла затянуться, учитывая превосходство афинян на море и возможность поддержки от Персии. Когда он убедился, что его требование встретит твердый отпор, политические соображения взяли верх над гневом.
Фокион вернулся в Афины с вестью об уступках Александра, избавив город от крайней опасности. Его влияние, и без того значительное (он годами переизбирался стратегом), еще более возросло, тогда как авторитет Демосфена и других антимакедонских ораторов пошатнулся. Для Александра было немаловажно иметь в Афинах неподкупного Фокиона как лидера промакедонской партии. Его персидский поход мог сорваться из-за сопротивления греков, подстрекаемых персидским золотом. Чтобы удержать Афины от таких союзов, он полагался на влияние Фокиона, всегда отговаривавшего город от сопротивления растущему могуществу Македонии.
В беседе с Фокионом о предстоящем походе [стр. 48] Александр льстил афинской гордости, называя Афины вторыми после себя и достойными возглавить Грецию в случае его гибели. [109] Такие комплименты было полезно повторить в народном собрании: македонский царь, вероятно, предпочитал афинское лидерство спартанскому, ибо Спарта открыто ему противилась.
Успокоив гнев Александра, Афины вернулись в состав союза под его властью. Не заходя в Аттику, он двинулся к Коринфскому перешейку, где, видимо, принимал делегации от греческих городов, изъявлявших покорность. Вероятно, он также председательствовал на собрании общегреческого синода, определяя контингенты для весеннего похода.
Всех приветствовали его с покорностью, кроме киника Диогена, жившего в Коринфе в бочке и довольствовавшегося аскетической жизнью. Александр с свитой подошел к нему и спросил, не нужно ли ему чего. Диоген ответил: «Да, отойди, ты заслоняешь мне солнце». Окружающие рассмеялись, но Александра поразила независимость философа, и он воскликнул: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». [110]
Посетив Дельфы и получив (или вырвав) у пифии [111] благоприятное предсказание для азиатского похода, он вернулся в Македонию до зимы. Главным итогом его пребывания в Греции стала реорганизация Беотии: уничтожение Фив, восстановление Орхомена, Феспий и Платей с разделом фиванских земель – все под контролем македонского гарнизона в Кадмее. [стр. 49] Подробности этого процесса, полного драматизма и сложных вопросов, к сожалению, неизвестны.
Александр покинул Грецию осенью 335 г. до н.э. и больше не возвращался.
Тем летом, пока он действовал в Иллирии и против Фив, македонские силы Пармениона в Азии столкнулись с персидской армией и греческими наемниками под командованием родосца Мемнона. Парменион, войдя в Эолиду, взял Гриний, но был вынужден снять осаду Питан из-за Мемнона. Тот даже разбил македонский отряд Калласа в Троаде, заставив его отступить к Ройтею, но не смог захватить Кизик, ограничившись разграблением окрестностей. [112] Говорили, что Дарий готовил мощные сухопутные и морские силы против Александра, но реальные действия были скромнее.
Глава XCII. АЗИАТСКИЕ КАМПАНИИ АЛЕКСАНДРА
За год с небольшим Александр продемонстрировал энергию и полководческий талант, подавив стремление к свободе у греков на юге и фракийцев на севере Македонии. Зиму он посвятил подготовке, и к весне 334 г. до н.э. его армия для завоевания Азии собралась между Пеллой и Амфиполем, а флот стоял наготове.
Остаток жизни Александр провел в Азии – с переправы через Геллеспонт в марте-апреле 334 г. до н.э. до смерти в Вавилоне в июне 323 г. до н.э. (11 лет и 2–3 месяца). Он так и не вернулся в Македонию, но его завоевания были столь грандиозны, а аппетит к новым – так ненасытен, что Македония померкла в списке его владений. Греческие города и вовсе стали периферией новой восточной империи. За эти 11 лет история Греции почти пуста, если не считать отдельных событий. Лишь со смертью Александра греки вновь пробудились к активности.
Азиатские завоевания Александра не относятся напрямую к истории Греции. Армия была македонской – от полководца до большинства солдат. Греки служили лишь вспомогательными силами, как фракийцы и пеонийцы. Хотя их было больше, они не были основной ударной силой, как «Десять тысяч» греков в армии Кира Младшего.
Главный секретарь Александра, Евмен из Кардии, был греком, как и многие гражданские и интеллектуальные деятели при нем. В персидской армии против него тоже сражалось много греков, составлявших ее реальную силу (если не считать численного превосходства).
Таким образом, поход вписался в греческую историю через участие греков по обе стороны, а также через связь с прежними проектами и легендами, предшествовавшими возвышению Македонии.
Месть Персии за вторжение Ксеркса и освобождение малоазийских греков были целями спартанца Агесилая и ферейца Ясона, вдохновленных возвращением «Десяти тысяч». Ритор Исократ призывал к этому сначала свободные греческие города под главенством Афин и Спарты, затем – Филиппа Македонского как лидера объединенной Греции.
Хотя это был проект македонской экспансии, он подавался под панеллинским лозунгом мести за давние обиды. Для Александра это был предлог, ибо истинных общегреческих чувств уже не существовало.
Греки в его армии напоминали немецкие контингенты Наполеона в 1812 году: они не были заинтересованы в его победе, лишь в собственном выживании. Александр, как Наполеон, считал их изменниками, если они служили врагу (Персии), и делал разницу между пленными азиатами и греками, упрекая последних в предательстве общеэллинского дела. [113]
Эллада как политическое целое теперь перестала существовать, за исключением тех случаев, когда Александр использует это название в своих целях. Её составные части присоединены в качестве придатков, несомненно, ценных, к Македонскому царству. Четырнадцать лет до воцарения Александра Демосфен, подстрекая афинян поддержать Олинф против Филиппа, говорил им [114]: «Македонская держава, рассматриваемая как придаток, [с. 53] представляет немалую ценность; но сама по себе она слаба и полна затруднений». Если поменять местами участников, эти слова точно описывают положение самой Греции по отношению к Македонии и Персии на момент воцарения Александра. Если бы персы действовали с достаточной осмотрительностью и энергией, его успех измерялся бы тем, насколько он смог бы присвоить греческую силу себе и лишить её врага.
Великие и знаменитые свершения Александра, к которым мы теперь переходим, принадлежат не правителю или политику, а полководцу и воину. В этом качестве его появление знаменует собой своего рода историческую эпоху. Он превосходит современников не только в воинских качествах – в безудержной и даже безрассудной храбрости, в неутомимой личной активности, в выносливости к лишениям и усталости, – хотя и этих качеств, будучи царём, достаточно, чтобы вдохновить подчинённых на великие свершения, даже если его полководческое искусство не превосходит средний уровень его эпохи. Но в военном деле Александр был ещё более выше своих современников. Его стратегические комбинации, использование различных родов войск для достижения единой цели, дальновидные планы ведения кампаний, постоянная предусмотрительность и находчивость перед новыми трудностями, а также быстрота передвижения даже в самой трудной местности – всё в грандиозных масштабах – не имеют аналогов в древней истории. Они поднимают искусство систематической и научной войны до такой степени эффективности, которой не смогли достичь даже его преемники, обученные в его школе.
Однако следует помнить, что Александр унаследовал македонскую военную систему, созданную Филиппом, и лишь применял и развивал её. Доставшаяся ему система воплощала накопленный результат и зрелые плоды ряда последовательных улучшений, внедрённых греческими тактиками в первоначальные эллинские порядки. В течение шестидесяти лет до воцарения [с. 54] Александра военное искусство заметно прогрессировало – к печальному ущербу для греческой политической свободы. «Всё вокруг нас (говорит Демосфен, обращаясь к афинянам в 342 г. до н. э.) в последние годы продвинулось вперёд – ничто не похоже на прежнее – но нигде изменения и расширение не столь заметны, как в военном деле. Прежде лакедемоняне, как и прочие греки, лишь вторгались на территорию друг друга в течение четырёх или пяти летних месяцев со своим гражданским ополчением гоплитов: зимой они оставались дома. Но теперь мы видим Филиппа в постоянных действиях, зимой и летом, атакующего всех вокруг, не только с македонскими гоплитами, но и с конницей, легкой пехотой, лучниками, наёмниками всех видов и осадными орудиями» [115].
В своих последних двух томах я подробно останавливался на этом прогрессирующем изменении характера греческого военного дела. В Афинах и в большинстве других частей Греции граждане стали избегать тяжёлой и активной военной службы. Владение оружием перешло в основном к профессиональным солдатам, которые, не имея чувства гражданства, служили там, где предлагали хорошую плату, и размножились до такой степени, что стали угрозой для греческого общества [116]. Многие из этих наёмников были легковооружёнными – пельтасты действовали в сочетании с гоплитами [117]. Ификрат значительно улучшил и частично перевооружил пельтастов, которых он использовал совместно с гоплитами так эффективно, что поразил современников [118]. Его нововведение было далее развито великим [с. 55] военным гением Эпаминонда, который не только заставил пехоту и конницу, легковооружённых и тяжеловооружённых, действовать согласованно, но и полностью изменил общепринятые принципы боевого манёвра, сосредоточив непреодолимую силу атаки на одном участке вражеской линии и удерживая остальную часть своей линии в обороне. Помимо этих важных улучшений, реализованных полководцами на практике, такие опытные офицеры, как Ксенофонт, излагали результаты своего военного опыта в ценных опубликованных трудах [119]. Именно эти уроки усвоил македонский Филипп и применил их для порабощения тех самых греков, особенно фиванцев, от которых они исходили. В юности, будучи заложником в Фивах, он, вероятно, общался с Эпаминондом и, несомненно, хорошо изучил фиванскую военную организацию. У него были все мотивы, не только из-за честолюбия завоеваний, но и из-за необходимости обороны, чтобы использовать это: и он подошёл к задаче с величайшим военным гением и способностями. В вооружении, построениях, осадных машинах, организации войск и штабной работе он ввёл важные новшества, оставив своим преемникам македонскую военную систему, которая с улучшениями его сына просуществовала до завоевания страны Римом почти два века спустя.
Военная сила Македонии в эпохи, предшествовавшие [с. 56] Филиппу, состояла, как и в Фессалии, из хорошо вооружённой и обученной конницы, набранной из зажиточных землевладельцев страны, – и из многочисленных отрядов пельтастов или легкой пехоты (несколько аналогичных фессалийским пенестам): последние были сельским населением, пастухами или земледельцами, пасшими овец и крупный рогатый скот или обрабатывавшими землю среди просторных гор и долин Верхней Македонии. Греческие города у побережья и немногочисленные македонские города во внутренних районах имели граждан-гоплитов, лучше вооружённых; но пешая служба не пользовалась почётом среди местных жителей, и македонская пехота в целом представляла собой не более чем сброд. Ко времени воцарения Филиппа они были вооружены не лучше, чем ржавыми мечами и плетёными щитами, совершенно неспособными противостоять набегам их фракийских и иллирийских соседей, перед которыми они постоянно вынуждены были бежать в горы [120]. Их состояние было состоянием бедных пастухов, полуголых или покрытых лишь шкурами, и евших из деревянных мисок: не сильно отличаясь от населения Верхней Македонии тремя веками ранее, когда его впервые посетил Пердикка, предок македонских царей, и когда жена местного князя пекла хлеб своими руками [121]. С другой стороны, хотя македонская пехота была столь незначительна, конница страны [с. 57] была превосходна как в Пелопоннесской войне, так и в войне, которую Спарта вела против Олинфа более чем двадцать лет спустя [122]. Эти всадники, подобно фессалийцам, атаковали в сомкнутом строю, используя в качестве основного оружия не метательные дротики, а короткие колющие пики для ближнего боя.
Таковы были недостатки военной организации, которую застал Филипп. При нём она была полностью перестроена. Бедное и выносливое ополчение Македонии, постоянно оборонявшееся от хищных соседей, представляло собой превосходный материал для солдат и оказалось восприимчивым к нововведениям воинственного правителя. Их поставили на постоянную службу в строю тяжёлой пехоты; более того, их заставили принять новый вид оружия, не только само по себе очень трудный в обращении, но и сравнительно бесполезный для солдата в одиночном бою, пригодный лишь для строя людей, обученных двигаться или стоять вместе. Новое оружие, о котором мы впервые слышим в армии Филиппа, – это сарисса, македонская пика или копьё. Сарисса использовалась как пехотой его фаланги, так и отдельными полками его конницы; в обоих случаях она была длинной, хотя у фаланги она была значительно длиннее. Конные полки, называемые сариссофорами или уланами, были своего рода лёгкой кавалерией, вооружённой длинным копьём, и отличались от тяжёлой кавалерии, предназначенной для рукопашного боя, которая несла ксистон или короткую пику. Сарисса этой кавалерии могла быть длиной в четырнадцать футов, как сейчас казачья пика; у пехоты в фаланге она была не менее двадцати одного фута. Этот размер настолько огромен и неудобен, что мы вряд ли поверили бы ему, если бы он не был подтверждён ясным утверждением такого историка, как Полибий.
Необычайная длина сариссы или пики составляла главную особенность и силу македонской фаланги. Фалангиты строились в шеренги, обычно глубиной в шестнадцать рядов, каждая называлась лохом; с интервалом в три фута между каждыми двумя солдатами спереди назад. Впереди стоял лохаг, человек превосходной силы и испытанного военного опыта. Второй и третий в шеренге, а также последний, замыкавший строй, также были отборными солдатами, получавшими большее жалованье, чем остальные. Сарисса, находясь в горизонтальном положении, держалась обеими руками (в отличие от копья греческого гоплита, которое занимало только одну руку, другая требовалась для щита), и так, что она выступала на пятнадцать футов перед телом копейщика; в то время как задняя часть в шесть футов была утяжелена, чтобы обеспечить удобное распределение давления. Таким образом, сарисса человека, стоявшего вторым в шеренге, выступала на двенадцать футов впереди первого ряда; третьего – на девять футов; четвёртого и пятого – соответственно на шесть и три фута. Таким образом, каждый лох представлял собой пять рядов пик, встречающих наступающего врага. Из этих пяти первые три явно выступали дальше, а четвёртый – не меньше, чем копья греческих гоплитов, идущих в атаку. Ряды позади пятого, служа для поддержки и напора вперёд, не держали сариссу горизонтально, а наклоняли её над плечами впереди стоящих, чтобы ослабить силу дротиков или стрел, которые могли быть пущены сверху из тыловых рядов врага [123].
Фалангит (солдат фаланги) был также снабжён коротким мечом, круглым щитом диаметром чуть более двух футов, нагрудником, поножами и каусией – широкополой шляпой, обычным головным убором в македонской армии. Но длинные пики были на самом деле главным оружием как защиты, так и нападения. Они предназначались для борьбы с атакой греческих гоплитов с одноручными копьями и тяжёлыми щитами; особенно против самого грозного проявления этой силы – глубокой фиванской колонны, организованной Эпаминондом. Именно это Филиппу пришлось иметь дело при воцарении как с непреодолимой пехотой Греции, сметающей всё перед собой ударом копья и напором щита. Он нашёл способ победить её, обучив свою бедную македонскую пехоту систематическому использованию длинной двуручной пики. Фиванская колонна, атакующая такую фалангу, оказывалась неспособной прорвать строй выставленных пик или дойти до толкания щитами. Нам рассказывают, что в битве при Херонее все фиванские воины первого ряда, избранные мужи города, погибли на месте; и это неудивительно, если представить их бросающимися, как по собственному мужеству, так и под напором сзади, на стену пик вдвое длиннее их собственных. Мы должны рассматривать фалангу Филиппа в сравнении с врагами перед ним, а не с более поздней римской организацией, которую приводит Полибий. Она идеально отвечала целям Филиппа, которому нужно было прежде всего выдержать лобовой удар, подавляя греческих гоплитов их же способом атаки. Полибий сообщает нам, что фаланга ни разу не была побеждена в лобовом столкновении на подходящей для неё местности; а где местность подходила для гоплитов, там она подходила и для фаланги. Неудобства строя Филиппа и длинных пик заключались в неспособности фаланги изменить фронт или сохранить порядок на неровной местности; но такие неудобства в не меньшей степени ощущали и греческие гоплиты [124].