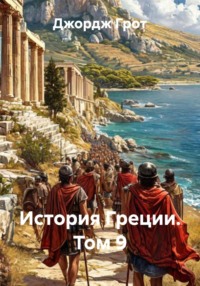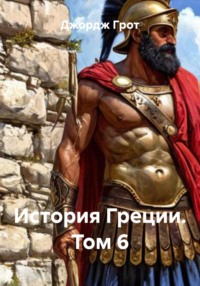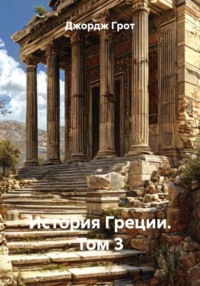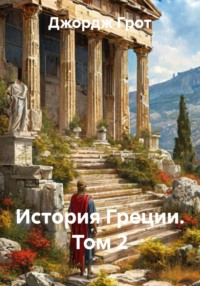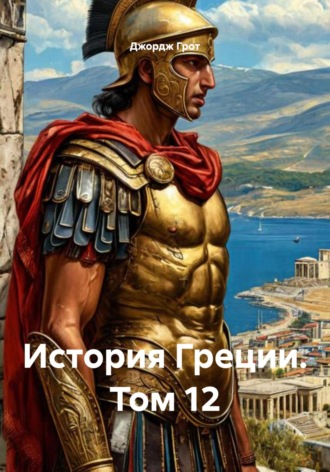
Полная версия
История Греции. Том 12
То, что Демосфен и, вероятно, другие ведущие ораторы получали такие субсидии от Персии, не является доказательством личной коррумпированности, в которой их обвиняют враги. Нет никаких доказательств, что Демосфен использовал эти деньги в личных целях. Получать и тратить их на попытки организовать сопротивление для освобождения Греции было действием, которое он считал не только законным, но и патриотичным. Это была помощь от одного иностранного правителя, чтобы помочь Элладе сбросить ещё более тяжкое иго другого. В этот момент политические интересы Персии совпадали с интересами всех греков, стремившихся к свободе. Дарий не имел шансов стать владыкой Греции, но его собственная безопасность требовала защитить её от превращения в придаток Македонского царства, и в данный момент у него были все средства для этого, если бы они были использованы эффективно. Цель греческого патриота заключалась в сохранении целостности и автономии эллинского мира от любого иностранного вмешательства. Призывать помощь Персии против эллинских врагов – как Спарта делала в Пелопоннесской войне и при Анталкидовом мире, а затем Фивы и Афины последовали её примеру – было неоправданно. Но просить ту же помощь против господства другого иностранца, более близкого и опасного, не заслуживало осуждения ни с точки зрения патриотизма, ни политики. Демосфен тщетно призывал своих сограждан действовать решительно против Филиппа, [стр. 22] когда они ещё могли своими силами сохранить автономию как для Афин, так и для всей Греции. Теперь он поддерживал или призывал Дария в момент, когда Греция в одиночку уже не могла противостоять Александру – общему врагу и эллинской свободы, и Персидской империи. К несчастью для Афин и для себя, Дарий, имея все средства для сопротивления, вёл свою игру против Александра с ещё большей глупостью и беспечностью, чем Афины против Филиппа.
Пока македонские офицеры совершали такие агрессивные действия, осуществляя свою новую имперскую власть по всей Греции и островам, а в Афинах росло сопротивление этому, Александр вернулся домой, чтобы ускорить подготовку к походу на Персию. Однако он не счёл благоразумным перебросить основные силы в Азию, пока не продемонстрировал свою власть и личное влияние в македонских зависимых территориях к западу, северу и северо-востоку от Пеллы – среди иллирийцев, пеонов и фракийцев. Под этими общими названиями скрывалось множество [55] отдельных племён или народов, воинственных и по большей части склонных к грабежу. Оставшиеся непокорёнными до побед Филиппа, они подчинялись ему с трудом и вряд ли стали бы повиноваться его юному преемнику, не ощутив на себе его личной энергии.
Соответственно, весной Александр возглавил крупные силы и двинулся на восток от Амфиполя через узкий Сапейский проход между Филиппами и морем. [56] За десять дней марша он достиг трудного горного перевала, единственного пути через Гем (Балканские горы). Здесь он обнаружил отряд свободных фракийцев и вооруженных торговцев страны, собравшихся, чтобы преградить ему путь; они заняли [p. 23] возвышенность, выставив перед собой повозки, которые планировали спустить по крутому склону на наступающие ряды македонян. Александр избежал опасности, приказав своим воинам либо расступиться, чтобы пропустить повозки, – а там, где не было места для такого маневра, – лечь на землю, плотно сомкнув щиты и наклонив их над телами. Таким образом, повозки, несясь вниз и ударяясь о щиты, отскакивали и перелетали через людей, не причинив никому вреда. Фракийцы, плохо вооруженные, были легко рассеяны македонской атакой, потеряв 1500 убитыми, а их женщины и дети попали в плен. [57] Пленники и добыча были отправлены под охраной в приморские города для продажи.
Преодолев горный путь, Александр повел армию через хребет Гема и выступил против трибаллов – могущественного фракийского племени, простиравшегося (насколько можно судить) от равнины Косово в современной Сербии на север до Дуная. Филипп покорил их, но не без серьезного сопротивления и даже отдельных поражений. Их князь Сирм уже отступил с женщинами и детьми племени на дунайский остров Певка, где укрылись и другие фракийцы. Основные силы трибаллов заняли позицию в лесистой местности на берегу реки Зигин, примерно в трех днях пути от Дуная. Однако, спровоцированные беспокоящими действиями македонской легкой пехоты, они вышли из укрытия на открытую равнину, где Александр атаковал их конницей и пехотой в ближнем бою и наголову разгромил. Три тысячи из них были убиты, но остальные, в основном, [p. 24] укрылись в лесу, так что пленных взяли мало. Потери македонян составили всего 11 всадников и 40 пехотинцев – согласно сообщению Птолемея, сына Лага, тогда одного из доверенных командиров Александра, а впоследствии основателя династии греко-египетских царей. [58]
Трехдневный марш от места сражения привел Александра к Дунаю, где он обнаружил несколько вооруженных кораблей, заранее отправленных (вероятно, с провиантом) из Византия через Понт вверх по реке. Сначала он попытался высадить войска на остров Певка, но крутые берега, сильное течение и решимость защитников сорвали его замысел. В качестве компенсации Александр решил продемонстрировать силу, переправившись через Дунай и атаковав гетов – племя, состоявшее в основном из конных лучников, [59] схожих с фракийцами по обычаям и языку. Они занимали левый берег реки, в четырех милях от которого находился их город. Успехи македонян собрали на противоположном берегу 4000 гетов, готовых отразить переправу. Александр собрал местные лодки (выдолбленные из цельных стволов) и набил кожухи от палаток сеном, чтобы соорудить плоты. Ночью он переправил 4000 пехотинцев и 1500 всадников, высадившись на участке берега, покрытом высокой пшеницей, где не было вражеских постов. Геты, устрашенные не только переправой, но и боевым порядком македонян, едва выдержали атаку конницы и поспешили оставить свой слабо укрепленный город, отступив вглубь территории. Александр без сопротивления вошел в город, разрушил его, забрал ценности и сразу же вернулся к реке. Перед отходом он принес жертвы Зевсу-Спасителю, Гераклу и самому богу Истру (Дунаю), благодаря его за то, что он «не оказался непреодолимым». [60] В [p. 25] тот же день он переправился обратно в лагерь, совершив демонстрацию силы, призванную доказать, что он способен на то, что не удавалось ни его отцу, ни какой-либо греческой армии – перейти величайшую из известных рек без моста и перед лицом врага. [61]
[p. 26] Устрашающий эффект действий Александра был так велик, что не только трибаллы, но и другие автономные фракийские племена прислали послов с дарами или данью, умоляя о мире. Александр удовлетворил их просьбу. Поскольку его мысли были заняты войной в Азии, он ограничился тем, что запугал эти племена, чтобы предотвратить восстания в его отсутствие. Условия, которые он наложил, неизвестны, но дары он принял. [62]
Пока шли переговоры с фракийцами, прибыли послы от племени галлов, занимавших далекие горные области к западу, ближе к Ионическому заливу. Хотя они не были знакомы с Александром, молва о его подвигах побудила их просить его дружбы. Они отличались высоким ростом и хвастливой речью. Александр охотно заключил с ними союз. Во время пира он спросил их, чего они больше всего боятся в мире. Они ответили, что не боятся никого и ничего, кроме как «неба, которое может упасть на них». Этот ответ разочаровал Александра, ожидавшего, что они назовут его самого, – так велика была его уверенность в собственной исключительности. Он заметил друзьям, что галлы – хвастуны. Однако, если вдуматься, подобное определение куда лучше подходит ему самому. Этот эпизод интересен главным тем, что показывает, как рано в нем проявилось чудовищное самолюбие, которое впоследствии станет его отличительной чертой. Если после Исса он уже считал себя полубогом, это неудивительно; но пока что это был лишь первый год его правления, и он не совершил ничего, кроме похода во Фракию и победы над трибаллами.
Завершив эти дела, он двинулся на юго-запад, в земли агриан и пеонов, между верховьями Стримона и Аксия. Там его встретил отряд агриан во главе с князем Лангаром, ранее подружившимся с ним в Пелле еще до смерти Филиппа. Вскоре пришло известие, что иллириец Клит, сын Бардилия, побежденный Филиппом, поднял восстание в Пелионе (укрепленном пункте к югу от Лихнидского озера, у западного склона хребта Скард и Пинд, близ места, где его разрывает ущелье Цангон, или Девол [63]). Западные иллирийцы, тавлантии под предводительством князя Главкия, шли ему на помощь. Александр немедленно выступил туда, поручив Лангару разобраться с иллирийским племенем автариатов, угрожавшим его продвижению. Он [p. 28] шел вдоль реки Эригон от места ее впадения в Аксий. [64] Приблизившись к Пелиону, он обнаружил иллирийцев, занявших позиции перед городом и на окружающих высотах в ожидании Главкия. Пока Александр готовился к атаке, они приносили жертвы – трех мальчиков, трех девочек и трех черных баранов. Сначала они смело двинулись навстречу, но, не доведя дело до схватки, бросились бежать в город, оставив жертвы на поле. [65] Отбросив защитников, Александр начал возводить осадную стену вокруг Пелиона, но появление Главкия с большими силами заставило его отказаться от этого плана. Конный отряд, отправленный за фуражом под командованием Филоты, едва не был отрезан Главкием и спасся лишь благодаря подходу самого Александра с подкреплением. Столкнувшись с превосходящими силами, македонянам пришлось отступать по узкой дороге вдоль реки Эордак, где в некоторых местах могли идти лишь четверо в ряд, окруженные холмами и болотами. Благодаря смелым и умелым маневрам, а также использованию метательных машин для прикрытия арьергарда, Александр полностью дезорганизовал [p. 29] противника и вывел армию без потерь. [66] Иллирийцы, не сумевшие воспользоваться преимуществами позиции, после отступления врага предались беспечности, забыв о мерах безопасности. Узнав об этом, Александр совершил ночной марш-бросок с агрианами и легкой пехотой, поддержанный остальной армией, и на рассвете атаковал их лагерь. Успех был полным: иллирийцы бежали без сопротивления. Многие были убиты или взяты в плен; остальные, побросав оружие, разбежались, преследуемые македонянами. Князь Клит был вынужден оставить Пелион, который сжег, и отступить во владения Главкия. [67]
Как раз когда Александр одержал эту победу, до него дошла тревожная весть: фиванцы объявили о независимости и осадили македонский гарнизон в Кадмее.
Об этом событии, столь важном и роковом для его участников, нам известно очень мало. Уже отмечалось, что решение греков подчиниться Александру как гегемону осенью предыдущего года было принято под давлением македонских войск. Хотя только спартанцы осмелились открыто выразить несогласие, афиняне, аркадцы, этолийцы и другие были готовы последовать их примеру при первом же ослаблении Македонии. [68] Более того, энергия и способности Александра убедили персидского царя, что со смертью Филиппа опасность не миновала, и он начал отправлять или обещать финансовую помощь антимакедонским грекам. Мы уже видели проявления антимакедонских настроений в Афинах – их выражали виднейшие ораторы: Демосфен, Ликург, Гиперид и другие, а также военные вроде Харидема и Эфиальта, [69] вероятно, выступавшие еще смелее в отсутствие Александра. В других городах такие настроения тоже находили сторонников, но в Фивах, где их нельзя было выражать открыто, они были сильнее всего. [70] Фиванцы страдали от присутствия македонского гарнизона в их акрополе – беды, которой избежали большинство других городов. Как и пятьдесят лет назад, когда спартанский гарнизон был навязан им обманом Фойбида и Леонтиада, это привело к установлению промакедонскими лидерами режима террора, при котором свободное слово было подавлено, а граждане подвергались произволу и насилию со стороны своих и чужеземных правителей. [71] Многие фиванцы, в том числе самые свободолюбивые и смелые, находились в изгнании в Афинах, где, хотя официально им предоставляли лишь убежище, Демосфен и другие антимакедонские лидеры тайно обнадеживали их. [72] Подобно тому, как полвека назад Пелопид и Меллон нашли в Афинах сочувствие, позволившее им организовать заговор для освобождения Фив от спартанцев, теперь изгнанники надеялись повторить этот подвиг, если представится возможность.
Вот какие настроения царили в Греции во время долгого отсутствия Александра во время его похода во Фракию и Иллирию – периода в четыре или пять месяцев, завершившегося в августе 335 г. до н. э. Александр не только отсутствовал так долго, но и не отправлял домой никаких известий о своих действиях. Курьеры вполне могли быть перехвачены в горах Фракии, кишащих разбойниками; даже если они и достигали Пеллы, их донесения не оглашались публично, как это делалось бы, например, перед афинским народным собранием. Поэтому неудивительно, что стали распространяться слухи о его поражении и гибели. Среди этих слухов, множившихся и настойчивых, один даже был подтверждён лжецом, который утверждал, что только что прибыл из Фракии, лично видел гибель Александра и сам был ранен в битве с трибаллами, где царь погиб. [73] Эта радостная новость, не выдуманная, но слишком поспешно принятая на веру Демосфеном и Ликургом, [74] была объявлена афинскому собранию. Несмотря на сомнения, высказанные Демадом и Фокионом, ей поверили не только афиняне и присутствовавшие там фиванские изгнанники, но и аркадяне, элейцы, этолийцы и другие греки. Долгое время, из-за отсутствия [с. 32] Александра, слух оставался неопровергнутым, что усиливало уверенность в его правдивости.
Именно на полной вере в этот слух о поражении и гибели Александра греческие города начали действовать. Это событие само по себе разрывало их связь с Македонией. У Александра не было ни сына, ни взрослого брата, который мог бы унаследовать трон, так что под угрозой оказалось не только иностранное господство, но и внутреннее единство Македонии. Что касается Афин, Аркадии, Элиды, Этолии и других, антимакедонские настроения, несомненно, проявились яростно, но особых действий не требовалось. Иначе обстояло дело с Фивами. Феникс, Прохит и другие фиванские изгнанники в Афинах немедленно разработали план освобождения своего города и изгнания македонского гарнизона с Кадмеи. Вооружившись и получив деньги от Демосфена и других афинских граждан, а также по приглашению своих сторонников в Фивах, они внезапно ворвались в город с оружием в руках. Хотя им не удалось захватить Кадмею врасплох, они схватили в городе и казнили Аминту, одного из главных македонских командиров, и Тимолая, одного из ведущих промакедонски настроенных фиванцев. [75] Затем они немедленно созвали общее собрание фиванцев, на котором призвали их к решительным действиям для изгнания македонян и восстановления древней свободы города. Разглагольствуя о злодеяниях гарнизона и притеснениях со стороны тех фиванцев, которые правили с его помощью, они объявили, что счастливый момент освобождения настал благодаря недавней смерти Александра. Они, несомненно, вспоминали Пелопида и славное предприятие, лелеемое всеми фиванскими патриотами, когда он сорок шесть лет назад освободил город от спартанской оккупации. На этот призыв фиванцы ответили единодушно. Собрание приняло решение о разрыве с Македонией и автономии Фив, а также назначило беотархами некоторых из вернувшихся изгнанников и других представителей той же партии для решительных действий против гарнизона на Кадмее. [76]
К несчастью для Фив, ни один из этих новых беотархов не был человеком уровня Эпаминонда, вероятно, даже Пелопи [с. 33] да. Тем не менее их план, хотя из-за печального исхода его обычно называют безумным, поначалу выглядел более перспективным, чем заговор антиспартанцев в 380 г. до н. э. Кадмея была немедленно осаждена; возможно, они надеялись, что македонский командующий сдаст её так же легко, как это сделал спартанский гармост. Но эти надежды не оправдались. Филипп, вероятно, укрепил цитадель и обеспечил её провизией. Гарнизон презрел фиванских лидеров, которые не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы отдать приказ о штурме, как в своё время был готов поступить Пелопид, если бы ему отказали в сдаче. [77] Они ограничились тем, что окружили Кадмею двойной линией укреплений, чтобы предотвратить как вылазки изнутри, так и подвоз припасов извне. [78] Затем они отправили послов в траурных одеждах просителей к аркадянам и другим, заявляя, что их недавние действия направлены не против эллинского единства, а против македонского угнетения и насилия, которые давили на них с невыносимой жестокостью. Как греки и свободные люди, они умоляли о помощи, чтобы избавиться от этого бедствия. Они получили много сочувствия, а также некоторые обещания и даже частичную поддержку. Многие ведущие ораторы в Афинах – Демосфен, Ликург, Гиперид и другие – вместе с военачальниками Харидемом и Эфиальтом – горячо призывали своих сограждан выступить в поддержку Фив и оказать помощь против Кадмеи. Но большинство граждан, следуя советам Демада и Фокиона, ждали более надёжных подтверждений как смерти Александра, так и её последствий, прежде чем идти на риск открытой вражды с Македонией, хотя они, кажется, выразили сочувствие фиванской революции. [79] Демосфен далее отправился послом в Пелопоннес, в то время как македонский Антипатр также разослал настоятельные требования к пелопоннесским городам, требуя их контингентов как членов союза под властью Александра для действий против Фив. Красноречие Демосфена, подкреплённое его деньгами или персидскими деньгами, переданными через [с. 34] него, убедило пелопоннесцев отказаться подчиниться Антипатру и не посылать войск против Фив. [80] Элейцы и этолийцы дали общие обещания в поддержку революции в Фивах, а аркадяне даже отправили некоторые войска для её поддержки, хотя они не продвинулись дальше Истма. [81]
Это был переломный момент в греческих делах, открывавший новые возможности для восстановления свободы. Если бы аркадяне и другие греки оказали Фивам решительную помощь – если бы Афины проявили даже ту энергию, которую они проявили двенадцать лет спустя во время Ламийской войны, заняв Фермопилы армией и флотом – ворота Греции могли бы быть закрыты для новой македонской силы, даже если бы Александр был жив и возглавлял её. То, что борьба Фив не считалась в то время, даже промакедонски настроенными греками, безнадёжной, видно из последующих заявлений Эсхина и Динарха в Афинах. Эсхин (произнося пять лет спустя свою речь против Ктесифона) обвиняет Демосфена в том, что своей нерешительностью он привёл к гибели Фив. Иностранные наёмники, входившие в состав гарнизона Кадмеи, были готовы (утверждает Эсхин) сдать крепость за пять талантов; аркадские военачальники привели бы свои войска на помощь Фивам, если бы им заплатили девять или десять талантов – отвергнув требования Антипатра. Демосфен (говорят эти два оратора), имея в своём распоряжении 300 талантов от персидского царя для подстрекательства антимакедонских движений в Греции, был умолян фиванскими послами предоставить деньги для этих целей, но отказал, оставил деньги себе и тем самым предотвратил как сдачу Кадмеи, так и продвижение аркадян. [82] Обвинение, выдвинутое здесь против Демосфена, кажется совершенно невероятным. Предполагать, что антимакедонские движения значили для него так мало, – гипотеза, опровергаемая всей его историей. Но сам факт, что такие обвинения были выдвинуты Эсхином всего пять лет спустя, доказывает, что слухи и настроения того времени не считали шансы фиванцев на успешное сопротивление Македонии безнадёжными. И когда афиняне, следуя советам Демада и Фокиона, отказались помочь Фивам или занять Фермопилы – они, возможно, позаботились о безопасности Афин в отдельности, но отступили от великодушного и общеэллинского патриотизма, который вдохновлял их предков против Ксеркса и Мардония. [83]
Фиванцы, оставленные в этой неблагородной изоляции, продолжали осаду Кадмеи и вскоре могли бы принудить македонский гарнизон к сдаче, если бы не ошеломившее их событие – внезапное появление Александра лично в Онхесте в Беотии во главе своей победоносной армии. Первое известие о том, что он жив, принёс его приход в Онхест. Сначала никто не мог поверить в это. Фиванские лидеры утверждали, что это другой Александр, сын Эропа, во главе македонской армии помощи. [84]
В этом эпизоде мы можем отметить две черты, характеризовавшие Александра до конца его жизни: несравненную быстроту передвижения и не менее замечательное везение. Если бы весть о фиванском восстании достигла его, когда он был на Дунае или среди далёких трибаллов – или даже когда он был занят в труднодоступном районе вокруг Пелиона – он вряд ли смог бы прибыть вовремя, чтобы спасти Кадмею. Но он узнал об этом как раз тогда, когда уже победил Клеита и Главкия, так что его руки были совершенно свободны – и также когда он находился в особенно удобном положении для прямого марша в Грецию без возвращения в Пеллу. От перевала Тшангон (или реки Девол), близ которого Александр одержал свои последние победы, его путь лежал на юг, частично следуя верхнему течению реки Галиакмон через Верхнюю Македонию или области Эордея и Элимея, лежавшие слева, в то время как справа находились вершины Пинда и верхнее течение реки Аоос, занятые эпиротами-тимфейцами и паравейцами. На седьмой день марша, пересекая нижние отроги Камбунских гор (отделяющих Олимп от Пинда и Верхнюю Македонию от Фессалии), Александр достиг фессалийского города Пелинна. Ещё шесть дней привели его в беотийский Онхест. [85] Он был уже внутри Фермопил, прежде чем греки вообще узнали, что он в походе или даже что он жив. Вопрос о занятии Фермопил греческими силами таким образом отпал. Трудность форсирования этого прохода и необходимость опередить Афины с помощью хитрости или скорости были очевидны для Александра, как они были очевидны для Филиппа во время его похода 346 г. до н. э. против фокейцев.
Его прибытие, само по себе крайне грозное, произвело на греков двойное впечатление из-за своей внезапности. Мы едва ли можем сомневаться, что и афиняне, и фиванцы имели связи в Пелле – что они ожидали любого македонского вторжения оттуда – и что они предполагали, что сам Александр (если он всё ещё жив, вопреки их убеждению) вернётся в свою столицу, прежде чем начнёт новое предприятие. На этом предположении – самом по себе вероятном и которое оправдалось бы, если бы Александр не продвинулся так далеко на юг в момент получения известия [86] – они, по крайней мере, заранее узнали бы о его приближении и имели бы возможность организовать оборону. Но случилось так, что его неожиданное появление в самом сердце Греции исключило все комбинации и подавило саму мысль о сопротивлении.
Через два дня после прибытия в Беотию он провел свою армию вокруг Фив, чтобы разбить лагерь к югу от города; этим он не только перерезал сообщение фиванцев с Афинами, но и более наглядно продемонстрировал свою силу гарнизону в Кадмее. Фиванцы, хотя остались одни и без надежды на помощь, сохранили непоколебимую храбрость. Александр отложил штурм на день или два, надеясь, что они сдадутся; он хотел избежать атаки, которая могла стоить жизни многим его солдатам, нужным для его азиатских планов. Он даже сделал публичное объявление, [87] требуя выдачи антимакедонских лидеров Феникса и Прохита, но предлагая любому другому фиванцу, пожелавшему покинуть город, разрешение присоединиться к нему на условиях соглашения, заключенного предыдущей осенью.
На общем собрании промакедонски настроенные фиванцы убеждали в необходимости подчиниться непреодолимой силе. Но лидеры, недавно вернувшиеся из изгнания и возглавившие восстание, горячо выступали против этого предложения, настаивая на сопротивлении до смерти. Для них такая решимость, возможно, не удивительна, поскольку (как отмечает Арриан [88]) они зашли слишком далеко, чтобы надеяться на милость. Однако, поскольку большинство граждан сознательно приняло то же решение, [стр. 38] несмотря на сильные уговоры в обратном, [89] ясно видно, что они уже ощутили горечь македонского господства и предпочли погибнуть вместе со свободой своего города, чем терпеть его возобновление, которое наверняка стало бы еще хуже, вкупе с позором выдачи своих лидеров.
В то время, когда чувство Эллады как автономной системы угасало, а греческая храбрость вырождалась в инструмент для возвеличивания македонских вождей, эти соотечественники Эпаминонда и Пелопида подали пример самоотверженной жертвы во имя греческой свободы, не менее достойный, чем подвиг Леонида при Фермопилах, и лишь менее прославленный, потому что оказался безуспешным.
В ответ на прокламацию Александра фиванцы с городских стен огласили свой ответ, требуя выдачи его военачальников Антипатра и Филоты и призывая всех, кто желает вместе с персидским царем и фиванцами освободить греков и свергнуть деспота Эллады, [90] присоединиться к ним. Эта дерзкая насмешка и вызов разгневали Александра до глубины души. Он подвел осадные орудия и подготовил все для штурма города.
О последовавшей кровавой атаке сохранились разные описания, не вполне совпадающие, но не полностью противоречащие друг другу. Похоже, фиванцы возвели внешнее укрепление, защищенное двойным частоколом, вероятно, в связи с их действиями против Кадмеи. Стены охраняли наименее боеспособные солдаты – метеки и освобожденные рабы, в то время как лучшие войска смело вышли перед воротами и вступили в бой.