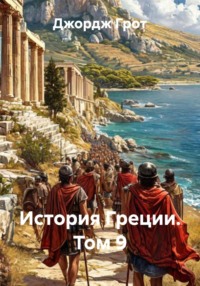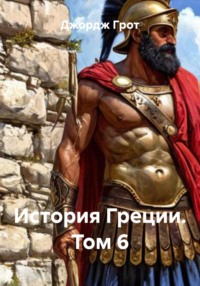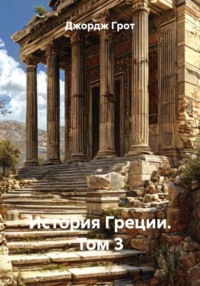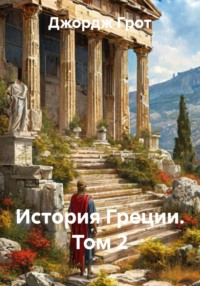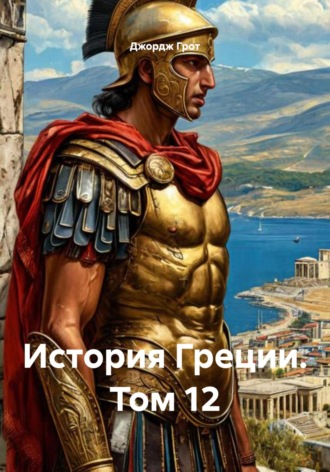
Полная версия
История Греции. Том 12
Александр (родившийся в июле 356 г. до н. э.), как и его отец Филипп, не был греком, а македонцем и эпиротом, частично проникнутым эллинскими чувствами и интеллектом. Хотя его предки несколько веков назад были выходцами из Аргоса, македонские цари давно утратили все следы той особенности, которая изначально могла отличать их от подданных. Основа характера Филиппа была македонской, а не греческой: это была своевольность варварского князя, а не ingenium civile – чувство взаимных обязательств и прав в обществе, которое в той или иной степени отличало даже самых могущественных членов греческого города, будь то олигархия или демократия. Если это было верно для Филиппа, то еще более верно для Александра, унаследовавшего буйный нрав и своеволие своей неистовой эпирской матери Олимпиады. [стр. 3]
Родственник Олимпиады по имени Леонид и акарнанец Лисимах упоминаются как главные наставники, которым было доверено воспитание Александра в детстве. [1] Разумеется, «Илиада» Гомера была одной из первых вещей, которые он выучил в детстве. На протяжении большей части жизни он сохранял страстный интерес к этой поэме, экземпляр которой, как говорят, исправленный Аристотелем, он возил с собой в военных походах. Мы не знаем (и вряд ли это вероятно), испытывал ли он подобную привязанность к менее воинственной «Одиссее». Уже ребенком он научился отождествлять себя с Ахиллом – своим предком по материнской линии, согласно родословной Эакидов. Наставник Лисимах завоевал его сердце, называя себя Фениксом, Александра – Ахиллом, а Филиппа – Пелеем. Сохранился один любопытный и достоверный анекдот о поэтических декламациях юного Александра. Ему было десять лет, когда афинское посольство, включавшее Эсхина и Демосфена, прибыло в Пеллу для переговоров о мире. Пока Филипп развлекал их за столом в своей обычной приятной и дружелюбной манере, мальчик Александр прочитал для их развлечения несколько поэтических отрывков, которые выучил, – а затем исполнил вместе с другим мальчиком диалог из одной из греческих драм. [2]
В тринадцать лет Александр был отдан на обучение Аристотелю, которого Филипп специально пригласил для этой цели и чей отец, Никомах, был другом и врачом отца Филиппа, Аминты. К сожалению, мы не можем точно сказать, какой курс обучения прошел Александр. Он пользовался уроками Аристотеля как минимум три года, и, как говорят, увлеченно занимался, проникшись сильной привязанностью к своему учителю. Его ораторские способности, хотя и не столь хорошо засвидетельствованные, как у его отца, всегда оказывались достаточными для его целей; более того, даже среди утомительных азиатских походов он сохранял интерес к греческой литературе и поэзии.
Точный момент, когда Александр впервые принял участие в активных действиях при жизни отца, нам неизвестен. Говорят, что однажды, будучи еще совсем юным, он принял персидских послов в отсутствие Филиппа и удивил их зрелостью поведения, а также политической проницательностью и уместностью своих вопросов. [3] Хотя ему было всего шестнадцать лет в 340 г. до н. э., он остался дома регентом, пока Филипп осаждал Византий и Перинф. Он подавил восстание соседнего фракийского племени мэдов, захватил один из их городов и переименовал его в Александрию – первый город, носивший это имя, впоследствии данное многим другим городам, основанным им. Во время похода Филиппа в Грецию (338 г. до н. э.) Александр участвовал в битве при Херонее, командовал одним из флангов и, как говорят, первым одержал победу над фиванским Священным отрядом. [4]
Однако, несмотря на такие проявления доверия и сотрудничества, происходили и другие события, вызывавшие горькую вражду между отцом и сыном. От жены Олимпиады у Филиппа были дети Александр и Клеопатра; от фессалийской наложницы Филинны – сын Арридей (впоследствии Филипп Арридей); также у него были дочери Кинна (или Кинана) и Фессалоника. Олимпиада, женщина кровожадного и неумолимого нрава, стала настолько ненавистна ему, что он развелся с ней и женился на новой жене по имени Клеопатра. Я уже рассказывал в предыдущем томе [5] о негодовании Александра из-за этого поступка и о бурной перепалке во время пира на свадебном торжестве, где Филипп даже выхватил меч, угрожал жизни сына и был остановлен только тем, что опьянение свалило его с ног. После этой ссоры Александр уехал из Македонии, отправив мать к ее брату, царю Эпира Александру. У Филиппа и Клеопатры родился сын. Ее брат (или дядя) Аттал приобрел большое влияние. Ее родственники и сторонники в целом были возвышены, в то время как Птолемей, Неарх и другие приближенные Александра были изгнаны. [6]
Таким образом, вплоть до самого дня убийства Филиппа перспективы Александра оставались неопределенными и опасными. Преемственность македонской короны, хотя и передавалась в одной семье, отнюдь не была гарантирована для отдельных ее членов; более того, в царском доме Македонии [7] (как и среди царей-диадохов, пришедших к власти после смерти Александра Великого) жестокие распри и постоянное недоверие между отцом, сыновьями и братьями были обычным явлением, из которого семья Антигонидов составляла почетное исключение. Между Александром и Олимпиадой с одной стороны и Клеопатрой с ее сыном и Атталом с другой неизбежно должен был возникнуть кровавый конфликт. Клеопатра в тот момент была на подъеме; Олимпиада была жестока и коварна; а Филиппу было всего сорок семь лет. Таким образом, будущее сулило Александру лишь усугубление раздоров и трудностей. Более того, его сильная воля и властный характер, идеально подходившие для верховного командования, делали его неспособным играть подчиненную роль даже по отношению к собственному отцу. Благоразумие Филиппа, собиравшегося отправиться в азиатский поход, побудило его попытаться уладить семейные раздоры, выдав свою дочь Клеопатру замуж за ее дядю, эпирского царя Александра, брата Олимпиады. Именно во время великолепного свадебного празднества в Эгах он был убит – Олимпиада, Клеопатра и Александр присутствовали на нем, в то время как Аттал находился в Азии, командуя македонским отрядом, посланным вперед вместе с Парменионом.
Если бы Филипп избежал этой катастрофы, он, несомненно, вел бы войну в Малой Азии с той же энергией и умением, с какими ее впоследствии вел Александр, хотя можно сомневаться, решился бы отец на те дальние предприятия, которые, сколь бы грандиозны и масштабны они ни были, не удовлетворяли ненасытное честолюбие сына. Но каким бы успешным Филипп ни был в Азии, ему вряд ли удалось бы избежать мрачных семейных распрей: с Александром как мятежным сыном, подстрекаемым Олимпиадой, – и с Клеопатрой на другой стороне, понимавшей, что ее собственная безопасность зависит от устранения царственных или квази-царственных соперников.
От таких грозных опасностей, видимых вдалеке, если не нависших непосредственно, Александра и Македонское царство избавил меч Павсания. Но в тот момент, когда был нанесен удар, и когда линкестиец Александр, один из посвященных в заговор, бросился опередить сопротивление и возложить корону на голову Александра Великого [8] – никто не знал, чего ждать от юного принца, внезапно вознесенного на престол в возрасте двадцати лет. Внезапная смерть Филиппа в зените славы и честолюбивых надежд должна была произвести сильнейшее впечатление сначала на собравшуюся празднующую толпу, затем на всю Македонию и, наконец, на иностранцев, которых он подчинил, от Дуная до границ Пеонии. Все эти зависимые территории удерживались лишь страхом перед [стр. 7] македонской силой. Предстояло выяснить, способен ли юный сын Филиппа подавить сопротивление и сохранить мощную организацию, созданную его отцом. Более того, у Пердикки, старшего брата и предшественника Филиппа, остался сын по имени Аминта, которому на тот момент было как минимум двадцать четыре года, и многие считали его законным преемником. [9]
Но Александр, немедленно провозглашенный царем своими сторонниками, показал себя на словах и на деле вполне способным справиться с ситуацией. Он собрал, обласкал и примирил подразделения македонской армии и высших офицеров. Его речи были разумны и энергичны: он обещал, что достоинство царства останется нерушимым, [10] и что даже азиатские проекты, уже объявленные, будут осуществляться с той же энергией, как если бы Филипп был жив.
Одним из первых действий Александра стало пышное погребение отца. Пока шли приготовления, он начал расследование, чтобы найти и наказать сообщников Павсания. Правда, самая знатная из упомянутых – Олимпиада – не только была защищена своим положением от наказания, но и сохранила огромное влияние на сына до конца его жизни. Трое других сообщников названы по именам – братья из знатного рода Линкестиды (Верхняя Македония): Александр, Геромен и Аррабей, сыновья Эропа. Двое последних были казнены, но первый из троих был пощажен и даже повышен до важных должностей в награду за то, что первым приветствовал Александра как царя. [11] Были казнены и другие, число которых нам неизвестно; и Александр, похоже, считал, что остались нераскрытые заговорщики. [12] Персидский царь хвастался в официальных письмах, [13] хотя мы не можем сказать, насколько правдиво, что он тоже был среди подстрекателей Павсания.
Среди лиц, убитых Александром в это время, можно назвать его двоюродного брата и зятя Аминту – сына Пердикки (старшего брата покойного Филиппа): Аминта был ребенком, когда умер его отец Пердикка. Хотя он имел преимущественное право на престол согласно обычаю, его дядя Филипп отстранил его, ссылаясь на юный возраст и трудности, сопутствующие началу нового правления. Однако Филипп выдал за него замуж свою дочь (от иллирийской матери) Кинну. Тем не менее, Александр теперь казнил его [14] по обвинению в заговоре: точные обстоятельства неизвестны, но, вероятно, Аминта (который, помимо того, что был сыном старшего брата Филиппа, был по крайней мере двадцати четырех лет, тогда как Александру было только двадцать) считал себя более достойным престола, и многие другие разделяли это мнение. Говорили, что младенца Клеопатры от Филиппа Александр убил как возможного соперника в престолонаследии; сама Клеопатра позже была казнена Олимпиадой в его отсутствие, к его огорчению. Аттал, дядя Клеопатры и сопредводитель македонской армии в Азии, был убит по тайному [стр. 9] приказу Александра Гекатеем и Филотой. [15] Другой Аминта, сын Антиоха (похоже, в Македонии было несколько человек с этим именем), бежал в Азию ради безопасности: [16] вероятно, другие, чувствуя себя под подозрением, поступили так же – поскольку по македонскому обычаю казнили не только осужденного за измену, но и всех его родственников. [17]
Беспощадной демонстрацией силы и решительности, а также устранением соперников и недовольных Александр быстро укрепил свою власть на троне. Однако признание от зависимых от Македонии народов – греков, фракийцев и иллирийцев – далось не так легко. Большинство из них стремилось сбросить иго, но никто не решался сделать первый шаг, а внезапная смерть Филиппа застала их неподготовленными к совместным действиям. Это событие освободило греков от всех обязательств, поскольку союзный совет избрал лично Филиппа императором. Теперь они были вправе, если вообще можно говорить о свободе в этом процессе, избрать кого-то другого, отказаться от переизбрания или даже распустить союз. Известно, что даже Филипп получил этот титул лишь под давлением и угрозами – хотя он заслужил его выдающимися деяниями и был величайшим полководцем и политиком своего времени. Греки отнюдь не стремились передать его юному Александру, пока он не доказал, что способен применить такую же силу и добиться подобной покорности. Желание освободиться от Македонии, широко распространенное среди греческих городов, открыто выражали Демосфен и другие в афинском собрании. Этот оратор (если верить его сопернику Эсхину), получив известие об убийстве Филиппа [стр. 10] через шпионов Харидема раньше других, притворился, что боги открыли ему это во сне. Явившись в собрание в праздничной одежде, он поздравил сограждан со смертью их злейшего врага и восхвалял подвиг Павсания-тираноубийцы, вероятно сравнивая его с Гармодием и Аристогитоном. [18] Он принижал способности Александра, называя его Маргитом (имя глупого персонажа из одной гомеровской поэмы) и намекая, что тот будет слишком занят внутренними делами и церемониями, чтобы думать о походе за границу. [19] Таковы, по словам Эсхина, были речи Демосфена при первых известиях о смерти Филиппа. Нет сомнений, что афиняне, как и Демосфен, ликовали при известии, сулившем новые шансы на свободу, и предложение о благодарственном жертвоприношении, [20] несмотря на сопротивление Фокиона, было охотно принято. Но хотя в Афинах настроения были явно антимакедонскими, выражая нежелание возобновлять недавнюю покорность Филиппу, Демосфен не зашел так далеко, чтобы объявить открытую вражду. [21] Он пытался наладить связи с персами в Малой Азии и, если верить Диодору, даже с македонским командующим там Атталом. Но обе миссии провалились. Аттал переслал его письмо Александру; а персидский царь, [22] вероятно, избавившись от страха перед македонской мощью после смерти Филиппа, резко отказал Афинам, заявив, что больше не даст им денег. [23]
[стр. 11] Не только в Афинах, но и в других греческих государствах смерть Филиппа пробудила стремление к свободе. Лакедемоняне, которые, несмотря на изоляцию, стойко отказывались подчиняться ему, теперь искали новых союзников; в то время как аркадцы, аргосцы и элейцы выражали антимакедонские настроения. Амбракиоты изгнали македонский гарнизон из своего города; этолийцы постановили помочь вернуть изгнанных Филиппом акарнанцев. [24] С другой стороны, фессалийцы остались верны Македонии. Но македонский гарнизон в Фивах и промакедонски настроенные фиванцы, управлявшие городом, [25] вероятно, были главным препятствием для объединенного выступления за эллинскую автономию.
Узнав об этих настроениях, Александр понял необходимость немедленно подавить их демонстрацией силы. Его энергия и быстрота действий быстро устрашили тех, кто рассчитывал на его молодость или повторял эпитеты Демосфена. Преодолев внутренние трудности быстрее, чем ожидалось, он через два месяца после смерти Филиппа вторгся в Грецию во главе мощной армии. Фессалийцы приняли его благосклонно и провозгласили Александра главой Греции вместо отца; это решение вскоре подтвердило амфиктионово собрание в Фермопилах. Затем Александр двинулся к Фивам, а оттуда через Коринфский перешеек в Пелопоннес. [стр. 12] Подробности его похода неизвестны, но его огромная армия, вероятно не уступавшая той, что победила при Херонее, везде сеяла ужас, заставляя молчать всех, кроме его сторонников. Нигде тревога не была сильнее, чем в Афинах. Вспоминая речи ораторов и решения собрания, оскорбительные, если не враждебные для Македонии, афиняне боялись, что Александр двинется на их город, и готовились к осаде. Все граждане должны были перевезти семьи и имущество за стены, так что город переполнился беженцами и скотом. [26] Одновременно собрание по предложению Демада приняло решение о покорности Александру: они не только признали его главой Греции, но и удостоили божественных почестей, даже более пышных, чем Филиппу. [27] Демад и другие послы доставили это решение Александру в Фивы, и тот принял их покорность. Молодой оратор Пифей, говорят, выступал против этого решения. [28] Остается неизвестным, присоединился ли к нему Демосфен – или, разочарованный и подавленный македонской мощью, предпочел молчать. Хотя его якобы избрали для этой миссии, он отказался и лишь проводил посольство до горы Киферон, после чего вернулся в Афины. [29] С удивлением читаем, что Эсхин и другие враги [стр. 13] обвиняли его в трусости. Ни один посол не был бы так ненавистен Александру и не рисковал получить отказ, как Демосфен. Послать его было бы безумием – разве что с тайным умыслом врагов: чтобы он либо стал жертвой гнева царя, [30] либо вернулся униженным прощенным преступником.
Продемонстрировав силу в Пелопоннесе, Александр вернулся в Коринф, где собрал представителей греческих городов. Список участвовавших городов неизвестен, но, вероятно, почти все города Центральной Греции прислали делегатов. Лишь лакедемоняне отказались. Александр потребовал того же, что и Филипп два года назад – гегемонии над Грецией для войны с Персией. [31] Просьба правителя, ведущего непобедимую армию, не оставляла выбора. Его избрали императором с полномочиями на суше и море. Все, кроме лакедемонян, подчинились под давлением македонской силы.
Условия соглашения, вероятно, повторяли договор Филиппа. Главным было признание Эллады союзом под властью македонского царя как императора, предводителя и исполнительной власти. [стр. 14] Оно делало его законным гарантом мира в Греции и завоевателем от ее имени. Другие условия, о которых известно из последующих жалоб, были справедливыми, но Александр вскоре начал их нарушать. Каждый греческий город объявлялся свободным и автономным. Существующий политический строй сохранялся; другим городам запрещалось вмешиваться или поддерживать изгнанников. [32] Запрещалось устанавливать новых тиранов или возвращать свергнутых. [33] Города обязывались пресекать незаконное насилие – казни, конфискации, передел земли, отмену долгов, мятежное освобождение рабов. [34] Гарантировалась свобода мореплавания; морской разбой запрещался под угрозой войны со всеми. [35] Запрещалось вводить военные корабли в чужие гавани или вербовать там моряков. [36] Города клялись соблюдать условия, воевать с нарушителями и высечь договор на стеле. Предусматривалось включение новых городов [37] в союз. Также, вероятно, предполагалось создание постоянных войск под македонским командованием и периодические собрания делегатов. [38]
Такова была конвенция, насколько нам известны её условия, согласованная греческими депутатами в Коринфе с Александром – но с Александром во главе неодолимой армии. Он провозгласил её «общим уставом греков» [39], устанавливающим высшее обязательство, гарантом которого выступал он сам, обязательное для всех и дающее ему право обращаться с нарушителями как с мятежниками. Она была представлена как аналог и замена Анталкидова мира, который, как мы вскоре увидим, сатрапы Дария попытаются возродить против него – главенство Персии против главенства Македонии. Такова печальная деградация [стр. 16] греческого мира: его городам не остаётся выбора, кроме как выбирать между этими двумя иностранными властителями – или призвать на помощь Дария, самого далёкого и наименее опасного, чьё господство едва ли могло быть чем-то большим, чем номинальным, против соседа, который неизбежно будет властным и подавляющим, а вероятно, и откровенно тираническим. Из некогда могущественных эллинских лидеров и соперников – Спарты, Афин, Фив, – при каждом из которых греческий мир сохранялся как независимое и самоопределяющееся сообщество, допускающее свободное проявление местных чувств и характера в более или менее благоприятных условиях, – двое последних теперь растворились как обычные единицы (один даже удерживается гарнизоном) среди подчинённых союзников Александра, в то время как Спарта сохраняет лишь достоинство изолированной независимости.
Похоже, что в течение девяти месяцев, последовавших за клятвой конвенции, Александр и его офицеры (после его возвращения в Македонию) активно действовали как силой оружия, так и посылкой послов, чтобы добиться новых присоединений и переустроить правительства различных городов в соответствии со своими взглядами. Жалобы на такие действия звучали в народном собрании Афин – единственном месте в Греции, где ещё сохранялась какая-то свобода обсуждения. Речь, произнесённая Демосфеном, Гиперидом или одним из современных антимакедонских политиков (примерно весной или в начале лета 335 г. до н. э.) [40], даёт нам представление как о продолжающихся македонских вмешательствах, так и о тщетных протестах против них, высказываемых отдельными афинскими гражданами. Ко времени этой речи такие протесты уже неоднократно повторялись. Македонствующие афиняне неизменно встречали их категоричными заявлениями, что конвенция должна соблюдаться. [стр. 17] Однако в ответ протестующие утверждали, что несправедливо требовать от Афин строгого соблюдения конвенции, в то время как македоняне и их приверженцы в различных городах постоянно нарушают её в своих интересах. Александр и его офицеры (утверждает этот оратор) ни разу не сложили оружия с момента заключения конвенции. Они постоянно вмешивались в дела правительств различных городов, чтобы продвинуть к власти своих сторонников. [41] В Мессене, Сикионе и Пеллене они свергли народные конституции, изгнали многих граждан и установили своих друзей в качестве тиранов. Македонские силы, предназначенные как общественная гарантия соблюдения конвенции, использовались лишь для того, чтобы отменить её лучшие условия и вооружить руки пристрастных сторонников. [42] Таким образом, Александр в качестве императора, игнорируя все ограничения конвенции, действовал как верховный тиран, поддерживая подчинённых тиранов в отдельных городах. [43] Даже в Афинах эта имперская власть отменяла решения дикастерия и принуждала к принятию мер, противоречащих законам и конституции. [44]
На море незаконные действия Александра или его офицеров были не менее очевидны, чем на суше. Конвенция, гарантирующая всем городам право свободного судоходства, прямо запрещала задерживать суда, принадлежащие другим. Тем не менее македоняне захватили в Геллеспонте все торговые суда, выходившие с грузом из Понта, и [стр. 18] доставили их на Тенедос, где они удерживались под различными ложными предлогами, несмотря на протесты владельцев и городов, чьи поставки зерна были таким образом прерваны. Среди пострадавших особенно выделялись Афины, поскольку потребителей импортного зерна, судовладельцев и купцов там было больше, чем где-либо ещё. Афиняне, чьи жалобы и протесты оставались без ответа, в конце концов настолько разгневались (и, возможно, обеспокоились своими запасами), что приняли декрет о снаряжении и отправке 100 триер, назначив адмиралом Менесфея (сына Ификрата). Этой решительной демонстрацией македоняне были вынуждены освободить задержанные суда. Если бы задержка продолжилась, афинский флот отплыл бы, чтобы силой добиться возмещения ущерба; и поскольку Афины на море превосходили Македонию, морское господство последней было бы свергнуто, а на суше это дало бы повод для недовольства против неё. [45] Другой инцидент, менее серьёзный, но всё же упомянутый оратором как нарушение конвенции и оскорбление афинян, заключался в следующем: хотя статья конвенции прямо запрещала вооружённым кораблям одного города заходить в гавань другого, македонская триера была отправлена в Пирей, чтобы запросить разрешение на постройку там меньших судов для македонян. Это оскорбило многих афинян не только как нарушение конвенции, но и как явный шаг к [стр. 19] использованию морских ресурсов и моряков Афин для усиления македонского флота. [46]
«Пусть те ораторы, которые постоянно увещевают нас соблюдать конвенцию (утверждает оратор), уговорят имперского вождя самому подать пример её соблюдения. Я тоже призываю вас к тому же. Для демократии нет ничего важнее строгого следования справедливости. [47] Но сама конвенция предписывает всем её участникам вести войну против нарушителей; и в соответствии с этой статьёй вы должны объявить войну Македонии. [48] Будьте уверены, что все греки увидят: война направлена не против них и вызвана не вашей виной. [49] В данный момент такой шаг для защиты вашей собственной свободы, а также свободы Эллады в целом, будет не менее своевременным и выгодным, чем справедливым. [50] Пришло время стряхнуть позорное подчинение другим и забытье о нашем собственном прошлом достоинстве. [51] Если вы поддержите меня, я готов внести формальное предложение – объявить войну нарушителям конвенции, как того требует сама конвенция.» [52]
Формальное предложение об объявлении войны повлекло бы для автора обвинение по графэ параномон. Поэтому, хотя он ясно дал понять, что считает текущий момент (каким бы он ни был) подходящим, он отказался брать на себя такую ответственность, не увидев заранее достаточного проявления общественного мнения, чтобы надеяться на благоприятный вердикт дикастерия. Вероятно, предложение так и не было внесено. Но даже сама по себе такая смелая речь, не подкреплённая действием, говорит о настроениях в Греции в месяцы, последовавшие за Александровой конвенцией. Эта речь – лишь одна из многих, произнесённых в афинском собрании с жалобами на македонское господство, установленное конвенцией. Очевидно, что действия македонских офицеров давали достаточно поводов для жалоб; а задержка торговых судов, выходивших из Понта, показывает, что даже продовольственное снабжение Афин и островов оказалось под угрозой. Хотя афиняне не прибегли к военному вмешательству, их собрание по крайней мере давало площадку для публичных протестов и выражения общественной солидарности.
Вероятно, в это время Демосфен и другие антимакедонские ораторы получали поддержку в виде субсидий и обещаний от Персии. Хотя смерть Филиппа и восшествие на престол неопытного юноши двадцати лет заставили Дария на мгновение поверить, что угроза вторжения в Азию миновала, его опасения вскоре возродились благодаря проявленной Александром энергии и возобновлению греческой лиги под его главенством. [53] По-видимому, весной 335 г. до н. э. Дарий отправил деньги для поддержки антимакедонской партии в Афинах и других местах. Эсхин утверждает, а Динарх позже повторяет (оба – враждебные Демосфену ораторы), что около этого времени Дарий послал в Афины 300 талантов, которые афинский народ отверг, но которые Демосфен взял, утаив при этом 70 талантов для себя: что впоследствии по этому поводу проводилось расследование. Однако ничего доказано не было; [54] по крайней мере, Демосфен не был осуждён или даже формально привлечён к суду (насколько известно). Из этих данных мы не можем извлечь конкретных фактов. Но они подтверждают общий вывод: Дарий или сатрапы Малой Азии отправили деньги в Афины весной 335 г. до н. э., а также письма или эмиссаров, чтобы подстрекать к войне против Александра.