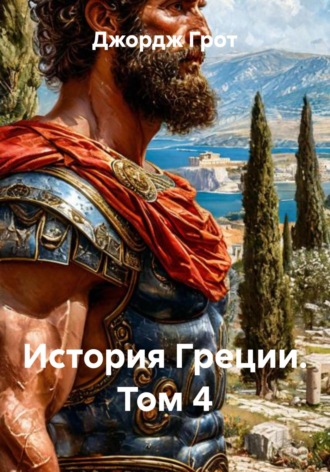
Полная версия
История Греции. Том 4
Как этот поэт, так и его современник, флейтист Сакада из Аргоса – победитель первых трех Пифийских игр, основанных после Священной войны, – превзошли своих предшественников в широте охватываемых тем, заимствуя из неисчерпаемого источника древних легенд и превращая хоровую песнь в развернутое эпическое повествование. [175] Действительно, эти Пифийские игры открыли новый [p. 90] путь для музыкальных композиторов как раз в то время, когда Спарта начала закрываться для музыкальных новшеств.
Алкей и Сапфо, оба уроженцы Лесбоса, жили примерно в одно время с Арионом, около 610–580 гг. до н. э. От их некогда знаменитых лирических произведений почти ничего не осталось. Однако сохранившиеся критические отзывы резко противопоставляют их Алкману, творившему в более строгой атмосфере Спарты, и сближают с бурной страстностью Архилоха, [176] хотя без его личной злобы. Оба сочиняли для своей местной аудитории на лесбийском эолийском диалекте – не потому, что он особенно подходил для выражения их чувств, а просто потому, что был привычнее слушателям. Сапфо сама гордилась превосходством лесбийских поэтов; [177] а слава Терпандра, Периклетита и Ариона позволяет предположить, что до нее на острове было много популярных певцов, не достигших общегреческой известности.
Алкей в своих песнях выражал самые яростные политические чувства, бурные перемены войны и изгнания, а также страстную любовь к вину и любви. [178] Любовная лирика, по-видимому, была главной темой Сапфо, хотя она также писала оды и песни [179] на самые разнообразные темы – от серьезных до сатирических – и, как говорят, первой использовала в музыке миксолидийский лад. Стремление эпохи к метрическим и ритмическим новшествам проявилось в том, что Алкею и Сапфо приписывают изобретение особых строф, известных под их именами – комбинаций дактиля, трохея и ямба, сходных с асинартетическими стихами Архилоха; впрочем, они вовсе не ограничивались только алкеевой и сапфической метрикой. Оба сочиняли гимны богам – тема, общая для всех лирических и хоровых поэтов, каковы бы ни были их особенности. Большинство их произведений были сольными, а не хоровыми песнями. Поэзия Алкея особенно примечательна как первый пример использования музы в политической борьбе, что показывает, насколько сильнее этот мотив завладевал греческим сознанием.
Гномические поэты, или стихотворные моралисты, по тону своих мыслей ближе к прозе. Они начинаются с Симонида Аморгского (или Самосского), современника Архилоха; сам Архилох посвятил часть своих произведений басне, известной еще со времен Гесиода. В сохранившихся фрагментах Симонида Аморгского мы не находим ничего личного, хотя, как и Архилох, он, говорят, имел врага – Ородеклида, чей характер был очернен его музой. [180] Его единственное [p. 92] значительное сохранившееся стихотворение посвящено описанию женских характеров в сравнении с различными животными – кобылой, ослом, пчелой и т. д. Оно продолжает гесиодовскую линию о социальном и хозяйственном вреде, обычно причиняемом женщинами (за редкими исключениями), но демонстрирует гораздо более широкий круг наблюдений и примеров. Его образы взяты прямо из жизни. В этом раннем ямбисте мы видим ту же симпатию к труду и его плодам, что и у Гесиода, но с еще более мрачным ощущением непостоянства человеческих дел.
О Солоне и Феогниде я говорил в предыдущих главах. Они отчасти воспроизводят морализаторский стиль Симонида, но с сильной примесью личных чувств и прямой связью с современными событиями. Смешение политической и социальной морали, характерное для обоих, отражает их более позднюю эпоху: Солон в этом отношении относится к Симониду так же, как его современник Алкей – к Архилоху. Его стихи, судя по сохранившимся фрагментам, были краткими, написанными по случаю, – за исключением эпоса о погрузившемся в море острове Атлантида, который он начал под конец жизни, но не закончил. Они написаны элегическим дистихом, ямбическим триметром и трохаическим тетраметром, но ни один из этих размеров у него не имеет особого, отдельного характера. Если стихи Солона коротки, то стихи Феогнида еще короче и настолько фрагментарны (в нашем современном собрании), что читаются как отдельные эпиграммы или всплески чувств, которые поэт не удосужился объединить в четкую композицию. Это странная смесь максим и страсти, общих наставлений и личной привязанности к юноше Кирну, что удивляет с точки зрения литературной нормы, но кажется искренним выражением жалоб и беспокойства обедневшего изгнанника.
От Фокилида, еще одного гномического поэта, почти современника Солона, осталось лишь несколько назидательных стихов – двустиший, в некоторых случаях с именем автора, вплетенным в текст.
Всё разнообразие ритмических и метрических новшеств [с. 93], которые были перечислены, не помешало древнему эпосу по-прежнему исполняться рапсодами, а к существующему корпусу добавились и новые эпические произведения: Евгаммон из Кирены, около 50-й Олимпиады (580 г. до н. э.), по-видимому, завершает этот ряд. Особенно в Афинах и Солон, и Писистрат проявляли большую заботу как о декламации, так и о точной сохранности текста «Илиады». Возможно, её популярность несколько снизилась из-за конкуренции с более яркой и эффектной лирической и хоровой поэзией, богатой ритмическим разнообразием. Однако какое бы второстепенное влияние ни оказывали эти новые формы поэзии благодаря своим внешним эффектам, главное их воздействие определялось подлинным интеллектуальным и поэтическим совершенством – мыслями, чувствами и выразительностью, а не аккомпанементом.
Долгое время композитор и поэт обычно оставались одним и тем же лицом; и помимо тех, кто достиг достаточной известности, чтобы остаться в памяти потомков, несомненно, было множество других, известных лишь своим современникам. Но для всех них инструмент и мелодия составляли лишь второстепенную часть того, что понималось под музыкой, – полностью подчиняясь «мыслям, что дышат, и словам, что горят» [181]. Точность и разнообразие ритмического произношения усиливали их воздействие на утончённый слух, но это удовольствие для слуха было лишь вспомогательным по отношению к эмоциональному отклику, вызванному самим смыслом.
Уже около 500 г. до н. э. поэты начали жаловаться на то, что аккомпанемент стал слишком доминировать. Однако лишь к эпохе комического поэта Аристофана, ближе к концу V века до н. э., изначальное соотношение между инструментальным сопровождением и словом действительно перевернулось, что вызвало громкие протесты [182]. Исполнение на флейте или кифаре стало более виртуозным, эффектным и подавляющим, а слова подбирались так, чтобы выгодно оттенять мастерство исполнителя. Я кратко упоминаю об этой последующей революции, чтобы подчеркнуть контраст с подлинно интеллектуальным характером изначальной греческой лирической и хоровой поэзии и показать, насколько смутное чувство, вызванное чисто музыкальным звучанием, уступало определённой эмоции и более долговечным, воспроизводимым сочетаниям, порождённым поэтическим смыслом.
Имя и поэзия Солона, а также краткие изречения Фокилида подводят нас к упоминанию о семи мудрецах Греции. Сам Солон был одним из них, и большинство, если не все, были поэтами или авторами стихов [183]. Большинству из них приписывается также множество метких ответов, а также одно краткое изречение или максима, служившее своего рода отличительным девизом [184]. Действительно, в ту эпоху признаком совершенного человека считалось умение петь или декламировать стихи, а также остроумно и быстро отвечать.
Относительно этого созвездия мудрецов – которых в следующем столетии греческой истории, когда философия стала предметом дискуссий и аргументации, восхваляли с особым почтением, – все свидетельства противоречивы и даже частично взаимоисключающи. Ни число, ни имена не совпадают у разных авторов. Дикеарх насчитывал десять, Гермипп – семнадцать; имена Солона Афинского, Фалеса Милетского, Питтака Митиленского и Бианта Приенского фигурируют во всех списках, а остальные, согласно Платону [185], – Клеобул Линдский (с Родоса), Мисон Хенейский и Хилон Спартанский. Другие источники, однако, приводят иные имена, и мы не можем с уверенностью распределить между ними изречения или девизы, которые в более поздние времена амфиктионы удостоили чести быть начертанными в Дельфийском храме: «Познай самого себя», «Ничего сверх меры», «Знай свой момент», «Поручительство – предвестник гибели».
Бианта хвалили как превосходного судью, а Мисона Дельфийский оракул, по свидетельству сатирического поэта Гиппонакса, назвал самым рассудительным среди греков. Это древнейшее свидетельство (540 г. до н. э.) в пользу кого-либо из семи; однако Клеобул Линдский, далёкий от всеобщего восхищения, был назван поэтом Симонидом глупцом [186]. Дикеарх, однако, справедливо заметил, что эти семь (или десять) человек не были мудрецами или философами в том смысле, какой эти слова приобрели в его время, но людьми практического ума, разбирающимися в человеке и обществе [187], – того же склада, что и их современник баснописец Эзоп, хотя и пользовавшиеся иным способом выражения.
Их появление стало эпохой в греческой истории, поскольку они были первыми, кто приобрёл общегреческую известность благодаря интеллектуальным заслугам, а не поэтическому гению или эффекту, – свидетельство того, что политическая и социальная мудрость начала цениться сама по себе. Солон, Питтак, Биант и Фалес были влиятельными фигурами – первые два даже доминировали [188] – в своих городах. Клеобул был тираном Линда, а Периандр (которого некоторые включают в число семи) – Коринфа.
Фалес выделяется как первое имя в истории физической философии, тогда как другие современные ему мудрецы, как утверждается, ею не занимались; их слава основывалась исключительно на моральной, общественной и политической мудрости, которая стала пользоваться большим почётом по мере роста нравственного чувства греков и расширения их опыта.
В этих прославленных именах мы видим социальную философию в ее раннем и младенческом состоянии – в форме простых изречений или наставлений, которые считаются либо самоочевидными, либо основанными на каком-то великом авторитете, божественном или человеческом, но не подкрепляются доводами и не допускают проверки их истинности через исследование и обсуждение. От такого бесхитростного принятия, от того чувства, которое придает силу этим наставлениям, мы частично освобождаемся уже у поэта Симонида Кеосского, который (как упоминалось ранее) резко критикует песню Клеобула и ее автора.
Последующее полувеко́вое время после эпохи Симонида (примерно 480–430 гг. до н. э.) всё больше подрывало это чувство, знакомя публику с аргументированными спорами в народном собрании, в судах и даже на театральной сцене. Возросшая самостоятельность греческой мысли, порожденная этим процессом, проявилась в Сократе, который подверг все этические и социальные учения проверке разумом и впервые пробудил среди своих соотечественников любовь к диалектике, которая уже никогда их не покидала – аналитический интерес к процессу исследования, проверки, доказательства и изложения истины.
На этот ключевой элемент [с. 97] человеческого прогресса, обеспеченного греками – и только ими – всему человечеству, мы обратим внимание в более поздний период истории; сейчас же он упоминается лишь в противопоставлении с голым, догматическим лаконизмом Семи Мудрецов и простым назиданием ранних поэтов – состоянием, когда мораль занимает определенное место в чувствах, но не имеет корней даже в сознании лучших умов, не опираясь на разумное осмысление.
Период между Архилохом и Солоном (660–580 гг. до н. э.), как отмечалось в моем предыдущем труде, представляется временем, когда письменность впервые стала применяться к греческим поэмам – в том числе к гомеровским; а вскоре после окончания этого периода начинается эпоха неметрической, прозаической литературы. Философер Ферекид Сиросский (ок. 550 г. до н. э.) некоторыми считается первым прозаиком; однако долгое время после него ни один прозаик не достиг известности – по-видимому, до Гекатея Милетского [189] (ок. 510–490 гг. до н. э.). Проза оставалась второстепенным и малоэффективным жанром, не всегда даже ясным, и требовала немалой практики, прежде чем авторы научились делать ее интересной [190].
Вплоть до поколения, предшествовавшего Сократу, поэты оставались главными наставниками греческого ума: в ту эпоху юношей учили лишь читать, запоминать, декламировать с соблюдением мелодии и ритма, а также понимать поэтические произведения. Комментарии учителей, обращенные к ученикам, возможно, становились более подробными и поучительными, но основой по-прежнему оставались эпическая или лирическая поэзия.
Не следует забывать и о том, что эти поэты, декламируемые вслух, были лучшими учителями для овладения сложной акцентной и ритмической системой греческого языка – обязательной для образованного человека в древности, причем ошибки в этом сразу бросались в глаза.
Не говоря уже о Холиямбисте Гиппонакте, который, кажется, был одержим демоном Архилоха, отчасти унаследовав и его [с. 98] гений, – Анакреонт, Ивик, Пиндар, Бакхилид, Симонид и афинские драматурги продолжают череду выдающихся поэтов без перерыва.
После Персидских войн потребности публичного красноречия создали класс риторических учителей, а постепенное распространение натурфилософии расширило круг преподавания. В результате прозаические сочинения – как устные, так и письменные – занимали всё больше внимания и постепенно достигли высокого совершенства, впервые явленного в трудах Геродота.
Но прежде чем проза достигла такого уровня и обрела стиль, необходимый для широкой популярности, она, несомненно, использовалась для записи информации. И обширные географические сведения, содержащиеся в «Землеописании» Гекатея, и первая карта, составленная его современником Анаксимандром, не могли бы появиться без предшествующей работы скромных прозаиков, записывавших лишь результаты собственных наблюдений.
Появление прозы около эпохи Писистрата примечательно не только как свидетельство прошлого прогресса, но и как средство будущего развития.
О том великолепном гении в скульптуре и архитектуре, который проявился в Греции после персидского нашествия, первые очертания обнаруживаются лишь между 600–560 гг. до н. э. в Коринфе, Эгине, Самосе, Хиосе, Эфесе и др. – однако их достаточно, чтобы свидетельствовать о прогрессе и усовершенствовании. Глаук Хиосский, как говорят, открыл искусство сварки железа, а Рёк (или его сын Феодор Самосский) – искусство литья меди и бронзы в формы: оба эти открытия, насколько можно установить, относятся к периоду чуть ранее 600 г. до н. э. [191] Первоначальные памятники, [стр. 99] воздвигнутые в честь богов, даже не претендовали на то, чтобы быть изображениями, а зачастую представляли собой лишь столб, доску, бесформенный камень, кол и т. д., установленные для обозначения и освящения места и получавшие от местных жителей почтение, украшение и поклонение. Иногда встречались настоящие статуи, хотя и самого грубого вида, вырезанные из дерева; и семьи резчиков – передававшие это ремесло из поколения в поколение, в Аттике известные под именем Дедала, а на Эгине – под именем Смилиса – долгое время строго придерживались освящённого канона изображения каждого конкретного бога. Постепенно возникло желание не только исправить примитивность таких идолов, но и изменить материал: иногда исходное дерево сохранялось, но покрывалось частично золотом или слоновой костью, в других случаях его заменяли мрамором или металлом. Дипен и Скиллид с Крита прославились как мастера по мрамору около 50-й Олимпиады (580 г. до н. э.), и с них начинается ряд имён, более или менее известных; кроме того, примерно в тот же период появляются первые храмовые приношения в виде произведений искусства в полном смысле слова – золотая статуя Зевса и большой резной ларец, посвящённые Кипселидами Коринфа в Олимпии. [192] Однако религиозные ассоциации, связанные с древним каноном, были настолько сильны, что [стр. 100] рука художника оставалась сильно скованной при создании статуй богов. Именно в статуях людей, особенно победителей Олимпийских и других священных игр, впервые стали стремиться к подлинной красоте и отчасти достигали её, а уже затем эти идеи перешли и к изображениям богов. Подобные статуи атлетов, по-видимому, появляются между 53-й и 58-й Олимпиадами (568–548 гг. до н. э.).
Точно так же лишь в этот же период (между 600–550 гг. до н. э.) мы находим первые следы тех архитектурных памятников, благодаря которым важнейшие города Греции впоследствии стяжали себе столь громкую славу. Два величайших храма Греции, известных Геродоту, – это Артемисион в Эфесе и Герайон на Самосе: первый, по-видимому, был начат самосцем Феодором около 600 г. до н. э., второй, заложенный самосцем Рёком, вряд ли может быть отнесён к более раннему времени. Первые попытки украсить Афины подобными сооружениями предприняли Писистрат и его сыновья примерно в ту же эпоху. Насколько можно судить при отсутствии прямых свидетельств, храмы Пестума в Италии и Селинунта на Сицилии также относятся к этому столетию. О живописи в эти ранние века ничего определённого сказать нельзя; она никогда не достигала такого совершенства, как скульптура, и можно предположить, что её первые шаги были как минимум столь же грубы.
Невероятное развитие греческого искусства впоследствии и великое мастерство греческих художников – факты огромной важности в истории человечества. И для самих греков они не только оказывали сильное влияние на вкусы народа, но и стали ценными как общий предмет гордости эллинизма, создавая узы братской симпатии и взаимной гордости среди его разбросанных частей. Именно отсутствие и слабость этих связей делают историю Греции до 560 г. до н. э. не более чем набором параллельных, но изолированных нитей, каждая из которых привязана к отдельному городу. А то расширение общего эллинского чувства и совместных действий, к которому мы вскоре перейдём, хотя и возникло во многом из-за новых общих угроз, нависших над многими городами сразу, отчасти проистекает и из других причин, перечисленных в этой главе [стр. 101] как воздействующих на греческий ум. Оно происходит от стимула, данного общим чувствам в религии, искусстве и развлечениях, – от постепенного формирования общегреческих празднеств, апеллирующих к вкусам и настроениям, волновавшим каждое эллинское сердце, – от вдохновения, принесённого гениями: поэтами, музыкантами, скульпторами, архитекторами, которые в каждом греческом городе в той или иной мере обеспечивали образование юношества, обучение хора и украшение местности, – от постепенного развития науки, философии и риторики в последующий период этой истории, сделавших один город интеллектуальной столицей Греции и привлекавших к Исократу и Платону учеников из самых отдалённых уголков эллинского мира. Именно этот фонд общих вкусов, устремлений и способностей заставлял социальные атомы Эллады тяготеть друг к другу и позволил грекам стать чем-то большим и лучшим, чем совокупность разрозненных общин, подобных фракийцам или фригийцам. И создание такого внеполитического общеэллинского единства – самое интересное явление, которое историк должен отметить в рассматриваемый нами ранний период. Он обязан подчеркивать его тем настойчивее, что современный читатель обычно не представляет себе национального единства без единства политического – ассоциации, чуждой греческому сознанию. Как бы странно ни казалось, что поэт-песенник выступает активным инструментом объединения своих соплеменников, тем не менее верно, что те поэты, которых мы кратко рассмотрели, обогащая общий язык и распространяясь из города в город лично или через свои произведения, способствовали разжиганию пламени общеэллинского патриотизма в то время, когда им почти ничто не помогало и когда причины, способствовавшие разобщённости, казалось, брали верх. [стр. 102]
Глава XXX.
ГРЕЧЕСКИЕ ДЕЛА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПИСИСТРАТА И ЕГО СЫНОВЕЙ В АФИНАХ.
Теперь мы подходим ко второму периоду греческой истории, который начинается с правления Писистрата в Афинах и Крёза в Лидии.
Как уже упоминалось, Писистрат стал тираном Афин в [560 г. до н. э.]. Он умер в [527 г. до н. э.], и ему наследовал его сын Гиппий, который был свергнут и изгнан в [510 г. до н. э.]. Таким образом, между первым возвышением отца и окончательным изгнанием сына прошло пятьдесят лет. Эти хронологические даты установлены на основании надежных свидетельств. Однако тридцать три года правления Писистрата прерывались двумя периодами изгнания – один длился не менее десяти лет, другой – пять. Точные даты этих изгнаний нигде не указаны достоверно, и хронологи по-разному определяли их на основании предположений. [193]
Отчасти из-за этой неполной хронологии, отчасти из-за скудного количества фактов история этого полувекового периода может быть изложена лишь весьма неполно. И неудивительно, что мы так мало знаем, если даже среди самих афинян всего столетие спустя ходили самые противоречивые и ошибочные сведения о Писистратидах, как с некоторым упреком сообщает нам Фукидид.
К этому времени прошло уже более тридцати лет с момента введения Солонова законодательства, согласно которому был создан ежегодный совет Четырехсот, а народное собрание (подготовленное и регулируемое этим советом) получило право привлекать должностных лиц к ответственности после окончания их срока. [стр. 103] Таким образом, были заложены основы будущей демократии, и, несомненно, правление архонтов стало мягче. Однако демократических настроений в обществе еще не сложилось. Спустя сто лет мы увидим, что эти настроения станут единодушными и могущественными среди предприимчивых масс Афин и Пирея, и услышим жалобы на трудности в общении с «гневным, вздорным, неуправляемым стариком – Демосом с Пникса», как называл афинский народ в лицо Аристофан, [194] чья свобода слова доказывает, что он по крайней мере рассчитывал на их добродушие.
Но в период с [560] по [510 г. до н. э.] народ оставался пассивным в вопросах политических прав и гарантий, как того желал бы самый ярый противник демократии, а власть переходила из рук в руки в результате сделок и интриг между двумя-тремя влиятельными лидерами, [195] возглавлявшими сторонников, которые повторяли их слова, участвовали в их личных распрях и брались за оружие по их приказу. Именно эту древнюю конституцию – Афины до появления афинской демократии – македонский правитель Антипатр якобы восстановил в [322 г. до н. э.], когда лишил политических прав большинство бедных граждан. [196]
Как уже рассказывалось в предыдущей главе, [197] Писистрат добился от народного собрания выделения ему стражи, которую затем использовал для захвата Акрополя. Так он стал хозяином государства, но пользовался властью разумно и справедливо, не нарушая существующих порядков больше, чем это было необходимо для удержания контроля. Тем не менее, как видно из стихов Солона [198] (единственного современного свидетельства, которым мы располагаем), общественное мнение отнюдь не одобряло его действий, и во многих умах царили страх и неприязнь, которые вскоре проявились в вооруженном союзе двух его соперников – Мегакла, возглавлявшего паралиев (жителей побережья), и Ликурга, лидера педиэев (жителей равнины). Поскольку объединенные силы оказались слишком мощными для Писистрата, он был изгнан, недолго пробыв у власти.
Но настало время – как скоро, мы не можем сказать, – когда два соперника, изгнавшие его, поссорились, и Мегакл предложил Писистрату вернуть власть, обещая свою поддержку и выдвинув условие, чтобы Писистрат женился на его дочери. Условия были приняты, и между двумя новыми союзниками был составлен план их осуществления с помощью новой хитрости – ведь симулированные раны и притворство личной опасности вряд ли могли быть успешно разыграны во второй раз. Заговорщики облачили высокую (шести футов ростом) женщину по имени Фию в доспехи и одеяние Афины, окружили её атрибутами, сопровождавшими богиню в процессиях, и посадили в колесницу рядом с Писистратом. В таком виде изгнанный тиран и его сторонники подъехали к городу и направились к акрополю, предваряемые глашатаями, которые восклицали: «Афиняне! Примите же с радостью Писистрата, которого Афина почтила выше всех людей и теперь возвращает в свой акрополь». Горожане встретили мнимую богиню с полной верой и поклонением, а в сельских районах быстро распространился слух [p. 105], что Афина явилась лично, чтобы вернуть Писистрата. Таким образом, он без малейшего сопротивления овладел акрополем и властью. Его партия, объединившись с партией Мегакла, была достаточно сильна, чтобы удержать его у власти, как только он её получил; и, вероятно, все, кроме вождей, искренне верили в явление богини – и лишь после разрыва между Писистратом и Мегаклом стало известно, что это был обман. [199]
[p. 106] Дочь Мегакла, согласно договору, вскоре стала женой Писистрата, но детей она ему не родила; и стало известно, что её муж, уже имевший взрослых сыновей от первого брака и считавший, что Килонова скверна лежит на всём роду Алкмеонидов, не желал, чтобы она стала матерью. [200] Мегакл был так разгневан этим, что не только разорвал союз с Писистратом, но даже примирился с третьей партией – сторонниками Ликурга – и занял столь угрожающую позицию, что тирану пришлось покинуть Аттику. Он удалился в Эретрию на Эвбее, где оставался целых десять лет; однако значительную часть этого времени он потратил на подготовку к силовому возвращению и, кажется, даже в изгнании сохранял влияние, далеко превосходившее [p. 107] положение частного лица. Он оказал ценную помощь Лигдамиду Наксосскому, [201] помогая ему стать тираном этого острова, и, мы не знаем как, сумел оказать важные услуги разным городам, в особенности Фивам. Они отплатили ему крупными денежными взносами для восстановления его власти: наёмники были наняты в Аргосе, а наксосец Лигдамид прибыл лично с деньгами и войском. Так подготовленный и поддержанный, Писистрат высадился в Аттике при Марафоне. Как управлялись Афины в его десятилетнее отсутствие, мы не знаем; но власти позволили ему оставаться в Марафоне беспрепятственно и собирать сторонников как из города, так и из сельских округов. Лишь когда он двинулся от Марафона и достиг Паллены на пути к Афинам, они выступили против него. Более того, их действия даже при близости армий были либо крайне небрежными, либо предательскими: Писистрат сумел атаковать их врасплох, разгромив почти без сопротивления. Всё происходило так, словно это был заранее согласованный сговор: побеждённые войска, хотя их и не преследовали, якобы сразу рассеялись и разошлись по домам, повинуясь воззванию Писистрата, который двинулся на Афины и в третий раз стал правителем. [202]











