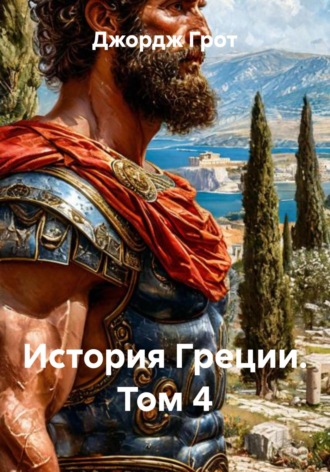
Полная версия
История Греции. Том 4
Полная открытость и равенство всех на этих великих играх – черта не менее примечательная, чем строгое следование установленным правилам и добровольное подчинение огромной толпы горстке служителей с палками [141], исполнявших приказы элейских гелланодиков. Место проведения церемонии и даже территория государства-организатора находились под защитой «Божьего перемирия» на протяжении месяца празднества, начало которого торжественно объявлялось герольдами, разосланными по разным государствам. Мирные договоры между городами часто официально увековечивались установленными здесь стелами, и общее впечатление от зрелища вызывало лишь мысли о мире и братстве среди греков [142].
И я могу [стр. 73] отметить, что восприятие игр как принадлежащих всем грекам и только грекам было сильнее и отчётливее в период между 600 и 300 годами до н. э., чем впоследствии. Ибо македонские завоевания размыли и исказили эллинизм, распространив внешний лоск эллинских вкусов и обычаев на обширные территории чуждых народов, неспособных к подлинному возвышению эллинского духа; так что, хотя в более поздние времена игры сохранили свою привлекательность и количество посетителей, дух общеэллинского единства, некогда одушевлявший это зрелище, исчез навсегда.
Глава XXIX.
ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ. – СЕМЬ МУДРЕЦОВ.
Период между 776–560 гг. до н. э. демонстрирует замечательное развитие греческого гения в создании элегической, ямбической, лирической, хоровой и гномической поэзии, которая была разнообразна во многих отношениях и усовершенствована множеством отдельных мастеров. Создатели всех этих стилей – от Каллина и Архилоха до Стесихора – относятся к двум векам, охваченным здесь, хотя Пиндар и Симонид, «гордые и высокомерные барды» [143], которые довели лирическую и хоровую поэзию до максимальной степени сложности, совместимой с полным поэтическим эффектом, жили в следующем столетии и были современниками трагика Эсхила. Греческая драма, как комедийная, так и трагическая, V века до н. э. соединяла лирическую и хоровую песнь [стр. 74] с живым действием ямбического диалога, образуя тем самым последний восходящий этап в поэтическом гении народа. Оставляя это для будущего времени и для истории Афин, к которым оно относится в большей степени, я сейчас намерен говорить только о поэтическом движении двух предыдущих столетий, в котором Афины не принимали или почти не принимали участия. К сожалению, от этих ранних поэтов сохранилось так мало, что мы можем предложить лишь заимствованные из вторых рук критические замечания и несколько общих соображений об их воздействии и направленности [144].
Архилох и Каллин оба, по-видимому, жили около середины VII века до н. э., и с них начинаются нововведения в греческой поэзии. До них, как нам известно, существовала только эпическая поэзия, или дактилический гекзаметр, о котором много говорилось в моем предыдущем томе, – то есть легендарные истории или приключения, изложенные в повествовательной форме, а также обращения или гимны к богам. Мы должны помнить также, что это была не только вся поэзия, но и вся литература той эпохи: прозаические сочинения были совершенно неизвестны, а письменность, если и начала применяться как вспомогательное средство для немногих выдающихся людей, во всяком случае, в целом не использовалась и не находила читающей публики. Голос был единственным передатчиком, а слух – единственным приемником всех тех идей и чувств, которые творческие умы в обществе ощущали потребность изливать; и голос, и слух привыкли к музыкальному речитативу, или напеву, представлявшему собой нечто среднее между песней и речью, с простым ритмом и еще более простым случайным аккомпанементом на примитивной четырехструнной лире. Такие привычки и требования голоса и слуха в то время неразрывно связывались с успехом и популярностью поэта и, без сомнения, способствовали ограничению круга тем, с которыми он мог работать. [стр. 75] Этот тип был в определенной степени освящен, подобно примитивным статуям богов, от которых люди отходили лишь постепенными и почти незаметными нововведениями. Более того, в первой половине VII века до н. э. того гения, который некогда создал «Илиаду» и «Одиссею», уже не существовало, и работа над гекзаметрическим повествованием перешла к менее одаренным лицам – к тем киклическим поэтам, о которых я говорил в предыдущих томах.
Таково, насколько мы можем судить по весьма неопределенным свидетельствам, было состояние греческого ума непосредственно перед появлением элегических и лирических поэтов; в то же время его опыт расширялся благодаря основанию новых колоний, а общение между различными государствами усиливалось благодаря более свободному взаимодействию на религиозных играх и празднествах. Возникла потребность обратить литературу эпохи – я употребляю это слово как синоним поэзии – к новым чувствам и целям и применить богатый, пластичный и музыкальный язык старого эпоса к современным страстям и обстоятельствам, как социальным, так и индивидуальным. Такая тенденция стала очевидной уже у Гесиода, даже в рамках гекзаметра; но те же причины, которые привели к расширению тем поэзии, побудили людей варьировать и метр.
Что касается последнего пункта, есть основания полагать, что непосредственной определяющей причиной стало развитие греческой музыки; ибо уже было сказано, что музыкальный строй и инструменты греков, изначально очень ограниченные, значительно расширились благодаря заимствованиям из Фригии и Лидии, и эти приобретения, по-видимому, впервые реализовались около начала VII века до н. э. благодаря лесбосскому кифареду Терпандру, фригийскому (или греко-фригийскому) авлету Олимпу и аркадскому или беотийскому авлету Клону. Терпандр совершил важный шаг, заменив изначальную четырехструнную лиру семиструнной, охватывающей диапазон одной октавы или двух греческих тетрахордов, а Олимп и Клон научили многим новым номам, или мелодиям, на флейте, ранее неизвестным грекам, – вероятно, также использованию флейты с более разнообразным музыкальным диапазоном. Говорят, что Терпандр одержал победу на первом зафиксированном праздновании спартанского Карнейского фестиваля в 676 [стр. 76] г. до н. э.: это один из наиболее точно установленных моментов в неясной хронологии VII века; и есть основания относить Олимпа и Клона примерно к тому же периоду, немного раньше Архилоха и Каллина [145]. Терпандру, Олимпу и Клону приписывается создание первых музыкальных номов, известных позднейшим любознательным грекам: первому – номов для лиры, двум последним – для флейты, причем каждый ном представлял собой общую схему или основу, в рамках определенных границ которой исполняемые мелодии были вариациями [146]. Терпандр использовал свои расширенные инструментальные возможности как новое сопровождение к гомеровским поэмам, а также к собственным эпическим прологам или гимнам богам. Однако он, по-видимому, не отошел от гекзаметра и дактилического ритма, к которым новое сопровождение, вероятно, не совсем подходило; и таким образом могла возникнуть идея комбинировать слова также по новым ритмическим и метрическим законам.
Бесспорно, по крайней мере, что эпоха (670–600), непосредственно следующая за Терпандром, – включающая Архилоха, Каллина, Тиртея и Алкмана, чьи хронологические соотношения мы не можем точно определить, [147] хотя Алкман, по-видимому, был самым поздним, – демонстрирует замечательное разнообразие как новых метров, так и новых ритмов, наложившихся на прежний дактилический гекзаметр. Первый отход от последнего обнаруживается в элегическом стихе, использовавшемся, кажется, в той или иной степени всеми четырьмя упомянутыми поэтами, но в основном первыми двумя и даже приписываемом некоторыми изобретению Каллина. Тиртей в своих военных маршевых песнях применял анапестический метр, но у Архилоха, как и у Алкмана, мы находим следы гораздо более широкого метрического разнообразия – ямбического, трохеического, анапестического, ионического и т. д., – иногда даже асинтетических или составных метров, анапестических или дактилических, смешанных с трохеическими или ямбическими. То, что осталось от Мимнерма, который появляется ближе к концу деятельности предыдущих четырёх, – элегическое; его современники Алкей и Сапфо, помимо использования большинства уже существовавших метров, изобрели каждый свою особую строфу, известную под названием, производным от их имён. У Солона, младшего современника Мимнерма, мы находим элегический, ямбический и трохеический стихи; у Феогнида, ещё более позднего, – только элегический. Но и Арион, и Стесихор, по-видимому, были новаторами в этой области: первый – благодаря усовершенствованию дифирамбического хора, или круговой песни и танца в честь Диониса, второй – благодаря своим более сложным хоровым композициям, содержащим не только строфу и антистрофу, но и третью часть, или эпод, следующий за ними, исполняемый хором, стоящим на месте. И Анакреонт, и Ивик также добавили к существующему разнообразию метрических форм. И таким образом мы видим, что в течение полутора веков после Терпандра греческая поэзия (или греческая литература, которая в то время была тем же самым) значительно обогатилась по содержанию и разнообразилась по форме.
До некоторой степени между этими двумя аспектами, по-видимому, существовала реальная связь: новые формы были необходимы для выражения новых потребностей и чувств, – хотя утверждение, что элегический метр особенно подходит для одного типа чувств, [148] трохеический – для второго, [стр. 79] а ямбический – для третьего, если оно вообще верно, может быть принято лишь с множеством исключений, учитывая, что многие поэты использовали их для совершенно разных тем – весёлых или меланхоличных, гневных или жалобных, серьёзных или игривых, – по-видимому, без особого разбора.
Но принятие какого-то нового метра, отличного от бесконечной череды гекзаметров, требовалось, когда поэт желал сделать нечто большее, чем просто пересказать длинную историю или фрагмент героического предания, – когда он стремился представить себя, своих друзей, своих врагов, свой город, свои надежды и страхи относительно недавних или грядущих событий перед слушателем, причём кратко и живо. Греческий гекзаметр, подобно нашему белому стиху, имеет все свои ограничивающие условия, относящиеся к каждой отдельной строке, и не предлагает слушателю заранее определённой точки отдыха или естественной паузы далее. [149] В отношении любого длинного произведения, будь то эпос или драма, такая неограниченная свобода оказывается удобной, и ситуация была схожей для греческого эпоса и драмы – однострочный ямбический триметр обычно использовался для диалога в трагедии и комедии, так же как дактилический гекзаметр – для эпоса. Метрические изменения, введённые Архилохом и его современниками, можно сравнить с переходом от белого стиха к рифмованному двустишию и катренам: стих складывался в небольшие системы из двух, трёх или четырёх строк с паузой в конце каждой; и эта остановка, обеспеченная для слуха, а также ожидаемая и ценимая им, обычно совпадала с завершением, полным или частичным, [стр. 80] в смысле, который, таким образом, распределялся с большей выразительностью и эффектом. Элегический стих, или обычный гекзаметр и пентаметр (причём вторая строка представляет собой гекзаметр с опущенными третьим и шестым тезисом, [150] или последней половиной третьей и шестой стопы, и паузой на их месте), а также эпод (ямбический триметр, за которым следует ямбический диметр) и некоторые другие бинарные сочетания стихов, которые мы находим среди фрагментов Архилоха, задуманы с целью усиления эффекта как для слуха, так и для ума, не в меньшей степени, чем для прямого удовольствия от новизны и разнообразия.
Ямбический метр, основанный на примитивном ямбе, или грубой и непристойной насмешке, [151] составлявшей часть некоторых греческих [стр. 81] празднеств (особенно празднеств Деметры как в Аттике, так и на Паросе, родине поэта), – лишь один из многих новых путей, проложенных его изобретательным гением; его изобилие поражает, если учесть, что он начинает с немногого большего, чем простой гекзаметр, [152] в котором, кстати, тоже был выдающимся мастером, – ведь даже в отношении элегического стиха он с такой же вероятностью мог быть его изобретателем, как и Каллин, подобно тому как он был первым популярным и успешным автором застольных песен, или сколий, хотя Терпандр, возможно, создал нечто подобное до него. Полная утрата его стихов, за исключением нескольких фрагментов, позволяет нам распознать лишь одну характерную черту – глубокую личностность, пронизывающую их, а также ту грубую, прямую и откровенную свободу, которая позже придавала такую страшную силу старой комедии в Афинах. Говорят, что его сатиры довели Ликамба, отца Необулы, до самоубийства: последняя была обещана Архилоху в жёны, но обещание было нарушено, и поэт обрушился на отца и дочь со всевозможной клеветой. [153] Помимо этого разочарования, он был беден, сыном матери-рабыни и изгнанником из своей страны, Пароса, в неблагоприятную колонию Фасос. Отрывочные сведения о нём рисуют состояние страдания, сочетающегося с распущенностью, которое выливалось то в жалобы, то в клеветнические нападки; и в конце концов он был убит теми, кого его муза таким образом разгневала. Его необычайный поэтический гений встречает лишь единодушные похвалы в античности. Его победная песнь Гера [стр. 82] клу всё ещё популярно пелась победителями на Олимпийских играх почти два века спустя после его смерти, во времена Пиндара; но этот величественный и любезный поэт одновременно осуждает злобность и подтверждает возмездное страдание великого паросского ямбиста. [154]
Среди множества направлений, в которых Архилох проявил свой гений, нравоучительная, или гномическая, поэзия не отсутствует, в то время как его современник Симонид Аморгский посвящает ямбический метр преимущественно этой цели, впоследствии развитой Солоном и Феогнидом. Но Каллин, первый прославленный элегический поэт, насколько мы можем судить по его немногим фрагментам, использовал элегический метр для военно-патриотических призывов; а более обширные сохранившиеся произведения Тиртея – это проповеди в том же духе, внушающие спартанцам храбрость перед врагом, а также единодушие и повиновение законам дома. Это патриотические излияния, вызванные обстоятельствами времени и исполняемые сольным голосом под аккомпанемент флейты, [155] для тех, в чьих сердцах нужно было разжечь пламя мужества. Ибо хотя то, что мы читаем, изложено стихами, мы всё ещё находимся в потоке реальной и современной жизни, и нам следует представить себя скорее слушающими оратора, обращающегося к гражданам, когда опасность или раздор действительно нависают. Лишь в творчестве Мимнерма элегический стих начинает посвящаться нежным и любовным темам. Его немногочисленные фрагменты представляют собой поток пассивных и нежных чувств, иллюстрированных подходящими легендарными сюжетами, такими, какие во все времена ложились в основу поэзии, и совершенно отличных от риторики Каллина и Тиртея.
Поэтическое творчество Алкмана существенно отличается от творчества всех упомянутых выше его современников. Их произведения, помимо гимнов богам, в основном представляли собой выражения чувств, предназначенные для исполнения отдельными лицами, хотя иногда и подходили для кома – группы праздничных добровольцев, собиравшихся по какому-либо общему поводу. Сочинения же Алкмана были преимущественно хоровыми, предназначенными для пения и сопровождающего танца [стр. 83] хора. Он был уроженцем Сард в Лидии, или, по крайней мере, его семья происходила оттуда; и, судя по всему, он прибыл в Спарту в юном возрасте, хотя его гений и мастерское владение греческим языком опровергают историю о том, что он был привезен в Спарту как раб.
Древнейшая музыкальная традиция Спарты, обычно приписываемая Терпандру [156], претерпела значительные изменения не только под влиянием элегических и анапестических размеров Тиртея, но также благодаря критянину Фалету и лидийцу Алкману. Лира, инструмент Терпандра, была потеснена, а частично и вытеснена флейтой или авлосом, который недавно стал более выразительным в руках Олимпа, Клонаса и Полимнеста и постепенно стал излюбленным инструментом для произведений, призванных вызывать сильные эмоции. Он использовался как аккомпанемент и к элегиям Тиртея, и к гипорхемам (песням или гимнам в сочетании с танцем) Фалета, а также как стимулятор и регулятор спартанского военного марша [157].
Эти элегии (как уже отмечалось) исполнялись одним человеком перед собравшимися слушателями, и, несомненно, существовали и другие произведения, предназначенные для сольного исполнения. Однако в целом музыка и поэзия в Спарте имели иной характер: всё, что там происходило – и серьёзное, и развлекательное, – было публичным и коллективным, благодаря чему хор и его выступления получили необычайное развитие. Уже упоминалось, что хор, сочетавший пение и танец, обычно составлял важную часть богослужения по всей Греции и изначально представлял собой публичное проявление граждан [стр. 84] в целом – значительная их часть активно участвовала в нём [158] и получала соответствующую подготовку как часть обычного образования. При таких условиях ни песня, ни танец не могли быть чем-то иным, кроме предельно простых.
Однако со временем исполнение на главных празднествах становилось более сложным и переходило в руки специально и профессионально обученных исполнителей, в то время как большинство граждан постепенно переставали принимать активное участие, оставаясь лишь зрителями. Такая практика сложилась в большинстве регионов Греции, особенно в Афинах, где драматический хор достиг наивысшего совершенства. Однако драма так и не проникла в Спарту, а особенности спартанского образа жизни способствовали сохранению народного хора в его изначальном виде. Фактически он стал одним из элементов той непрерывной муштры, которой спартанцы подвергались с детства, и служил цели, аналогичной военной подготовке, приучая их к синхронным и упорядоченным движениям – настолько, что сравнение хора, особенно в его пиррических (военных) танцах, с военной эномотией (подразделением) часто подчеркивалось [159].
Во время исполнения торжественного пеана в честь Аполлона на празднике Гиакинфий царь Агесилай подчинялся распоряжениям хормейстера и пел на отведённом ему месте [160], в то время как все спартанцы без исключения – старшие [стр. 85], среднего возраста и молодёжь, замужние женщины и девушки – распределялись по различным хоровым группам [161] и обучались гармонии как голоса, так и движений, что публично демонстрировалось на празднествах Гимнопедий.
Слово «танец» следует понимать в более широком смысле, чем сейчас: оно включало в себя всё разнообразие ритмичных, акцентированных, согласованных движений, жестов или поз тела – от самых медленных до самых быстрых [162]; особое внимание уделялось хирономии – изящной и выразительной работе рук.
Таким образом, мы видим, что как в Спарте, так и на Крите (который в отношении публичности частной жизни наиболее приближался к Спарте), хоровые способности и проявления занимали больше места, чем в любом другом греческом городе. И поскольку для удовлетворения этой потребности требовалась определенная степень музыкального и ритмического разнообразия, [163] а музыка никогда не преподавалась спартанским гражданам индивидуально, – мы также понимаем, почему такие чужеземцы, как Терпандр, Полимнест, Фалет, Тиртей, Алкман и др., не только были приняты в Спарте, но и приобрели там большое влияние, несмотря на преобладающий дух ревнивой замкнутости в спартанском характере. Все эти мастера, по-видимому, преуспели в своем особом призвании – обучении хора, – привнося в него новое ритмическое действие и сочиняя для него новую музыку. Но Алкман делал это и нечто большее; он обладал гением поэта, и его сочинения впоследствии [стр. 86] читались с удовольствием теми, кто не мог услышать их в пении или увидеть в танце. В немногих сохранившихся фрагментах его стихов мы узнаем то разнообразие ритма и метра, которое прославило его. В этом отношении он (вместе с критянином Фалетом, который, как говорят, ввел в Спарте более энергичный стиль как музыки, так и танца, с кретическим и пеоническим ритмами [164]) превзошел Архилоха и проложил путь сложным хоровым движениям Стесихора и Пиндара: некоторые фрагменты также демонстрируют то свежее излияние личных чувств и эмоций, которое составляет столь значительную часть очарования народной поэзии. Помимо его трогательного обращения в старости к спартанским девам, над песнями и танцами которых он привык председательствовать, – он не боится говорить о своем здоровом аппетите, удовлетворенном простой пищей и наслаждающемся чашей теплого бульона в зимний тропик. [165] И он придал весне эпитет, который ближе к реальным чувствам бедной деревни, чем те чарующие картины, которые изобилуют в стихах, как древних, так и современных: он называет ее «временем скудного пайка», – поскольку урожай предыдущего года к тому времени уже почти съеден, земледелец вынужден урезать себя до нового урожая. [стр. 87] [166] Те, кто помнит, что в более ранние периоды нашей истории и во всех странах, где мало накопленных запасов, часто наблюдается огромная разница в цене зерна до и после урожая, почувствуют справедливость описания Алкмана.
Судя по этим и нескольким другим фрагментам этого поэта, Алкман, кажется, сочетал живость и возбуждающую энергию Архилоха в песне в собственном смысле, исполняемой им индивидуально, – с более глубоким знанием музыкального и ритмического эффекта в отношении хорового исполнения. Он сочинял на лаконском диалекте – разновидности дорического с некоторой примесью эолийских элементов. И именно от него, совместно с другими композиторами, выступавшими в Спарте в течение века после Терпандра, а также от одновременного развития хоровой музы [167] в Аргосе, Сикионе, Аркадии и других частях Пелопоннеса, дорический диалект приобрел постоянную основу в Греции как единственный подходящий диалект для хоровых композиций. Продолженный Стесихором и Пиндаром, этот обычай перешел даже к аттическим драматургам, чьи хоровые песни таким образом в значительной степени дорические, тогда как их диалог – аттический. В Спарте, как и в других частях Пелопоннеса, [168] музыкальный и ритмический стиль, по-видимому, был установлен Алкманом и его современниками и упорно сохранялся в течение двух или трех столетий с небольшими изменениями или без них; тем более что флейтисты в Спарте составляли наследственную профессию, следовавшую рутине своих отцов. [169]
[стр. 88] Алкман был последним поэтом, обращавшимся к народному хору. И Арион, и Стесихор сочиняли для группы обученных мужчин, со степенью разнообразия и сложности, недостижимой для простой части народа. Первоначальный дифирамб был круговым хоровым танцем и песней в честь Диониса, [170] распространенным на Наксосе, в Фивах и, по-видимому, во многих других местах на Дионисийских праздниках, – спонтанным излиянием пьяных людей в час веселья, в котором поэт Архилох, «с громом вина, наполнявшим его ум», часто принимал главное участие. [171] Его возбуждающий характер приближался к поклонению Великой Матери в Азии и контрастировал с торжественным и величавым пеаном, обращенным к Аполлону. Арион внес в него изменение, подобное тому, которое сам Архилох внес в похабный ямб. Он превратил его в сложное сочинение в честь бога, исполняемое и танцуемое хором из пятидесяти человек, не только трезвых, но и строго обученных; хотя его ритм и движения, а также его облик в характере сатиров, представляли более или менее имитацию первоначальной раскованности. Уроженец Метимны на Лесбосе, Арион предстает как кифаред, певец и композитор, пользовавшийся благосклонностью Периандра в Коринфе, в котором городе он впервые «сочинил, назвал и обучил дифирамбу», раньше любого, известного Геродоту. [172] Однако он не остался там навсегда, а путешествовал из города в город, выступая на праздниках за деньги, – особенно в греческой Сицилии и Италии, где приобрел большие богатства. Здесь мы можем вновь отметить, как поэты, так и праздники, способствовали укреплению чувства единства среди разрозненных греков. Такое превращение дифирамба из области [стр. 89] спонтанной природы в сад искусства [173] составляет первую ступень в утончении Дионисийского культа; в дальнейшем он возвысится еще больше в форме аттической драмы.
Дата жизни Ариона приходится примерно на 600 г. до н. э., вскоре после Алкмана; Стесихор жил на несколько лет позже. Последний внес значительный вклад в развитие греческого хора, особенно в окончательное разделение его исполнения на строфу, антистрофу и эпод – поворот, возврат и покой. Ритм и метр песни во время каждой строфы соответствовали антистрофе, но менялись в эподе, а затем снова варьировались в следующих строфах. До этого песня была монострофической, состоя лишь из одного однообразного куплета, повторявшегося от начала до конца произведения; [174] поэтому легко понять, насколько сложнее и труднее стала композиция с введением Стесихором новой формы – причем не только для исполнителей, но и для самого автора, который в то время был также их учителем и наставником.











