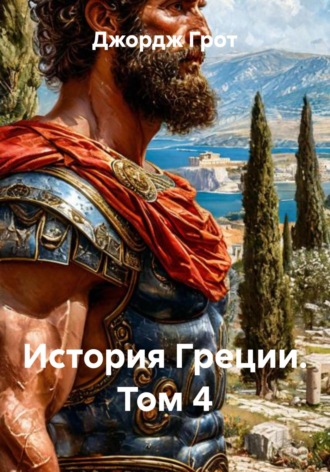
Полная версия
История Греции. Том 4
После этого третьего успешного вступления он принял решительные меры, чтобы удержать власть. Алкмеониды и их ближайшие сторонники ушли в изгнание; но он взял детей тех, кто остался и чьи настроения вызывали подозрения, в качестве заложников за поведение родителей и отправил их на Наксос под надзор Лигдамида. Кроме того, он обзавёлся сильным отрядом фракийских наёмников, содержавшихся за счёт налогов с народа. [203] Не забыл он и о благосклонности богов, проведя очищение священного острова Делос: [p. 108] все тела, погребённые в пределах видимости храма Аполлона, были извлечены и перезахоронены подальше. К тому времени Делосский праздник – посещаемый ионийцами Азии и островитянами, с которым Афины, конечно, были тесно связаны, – должно быть, уже начал терять прежнее великолепие: ведь Киром уже было покорено побережье Ионии, а могущество Самоса, хоть и возросшее при тиране Поликрате, развивалось за счёт разорения меньших ионийских островов. Отчасти из тех же чувств, что привели к очищению Делоса, отчасти как акт партийной мести, Писистрат приказал сравнять с землёй дома Алкмеонидов, а тела умерших членов этого рода выкопать и выбросить за пределы страны. [204]
Этот третий и последний период правления Писистрата длился несколько лет, вплоть до его смерти в 527 году до н. э. Говорят, что он был настолько мягким по своему характеру, что однажды Писистрат даже позволил привлечь себя к суду перед ареопагом. Однако, учитывая, что ему приходилось содержать большое количество фракийских наемников за счет народных средств, мы склонны рассматривать эту похвалу скорее в сравнительном, а не в абсолютном ключе. Фукидид утверждает, что и он, и его сыновья правили мудро и добродетельно, взимая с народа лишь пятипроцентный подоходный налог. [205] Это высокая оценка, особенно учитывая авторитет Фукидида, хотя, вероятно, следует сделать скидку на то, что он был связан родством с семьей Писистратидов. [206]
Геродот также высказывается о Писистрате весьма благосклонно; Аристотель тоже оценивает его положительно, но с оговорками – он включает этих тиранов в число тех, кто возводил общественные и священные сооружения с намерением не только занять подданных, но и обеднить их. Это предположение подтверждается грандиозным масштабом храма Зевса Олимпийского в Афинах, заложенного Писистратом, – его размеры превосходили даже Парфенон и храм Афины Полиады, построенные позже, когда ресурсы Афин были значительно больше, [207] а их стремление к демонстративной набожности ничуть не уменьшилось. Храм остался незавершенным и был достроен лишь при римском императоре Адриане.
Кроме того, Писистрат учредил Великие Панафинеи, проводившиеся раз в четыре года, на третий год Олимпиады. [стр. 110] Ежегодные Панафинеи, с тех пор называемые Малыми, также сохранились.
Я уже подробно упоминал о его заботе в деле создания полных и точных копий гомеровских поэм, а также об улучшении их исполнения на Панафинеях – за это мы ему весьма благодарны, хотя некоторые критики ошибочно интерпретировали его действия. Вероятно, он также собирал произведения других поэтов – Авл Геллий [208] называет это (не совсем уместно для VI века до н. э.) «публичной библиотекой». Эта инициатива была крайне ценной в эпоху, когда письменность и чтение не были широко распространены.
Его сын Гиппарх продолжил эту традицию, окружая себя известными поэтами своего времени [209] – Симонидом, Анакреонтом и Ласом, не говоря уже об афинском мистике Ономакрите, который, не претендуя на дар пророчества, выдавал себя за хранителя и редактора пророчеств, приписываемых древнему Мусею. Писистратиды хорошо знали эти пророчества и высоко их ценили, но когда Ономакрит был уличен в подделке текстов Мусея, Гиппарх изгнал его. [210]
Статуи Гермеса, воздвигнутые этим правителем или его друзьями в разных частях Аттики [211] и украшенные краткими нравоучительными изречениями, восхваляются автором платоновского диалога «Гиппарх» с преувеличением, граничащим с иронией. Однако несомненно, что и сыновья Писистрата, и он сам строго соблюдали религиозные обряды государства и украшали город, в частности, общественный источник Каллирою.
Говорят, они сохраняли прежние законы и судебную систему, лишь следя за тем, чтобы ключевые должности оставались в руках их сторонников, а реальная власть принадлежала им. [стр. 111] Они вели себя скромно и просто, были милостивы к бедным, однако известен случай жестокой расправы – тайное убийство Кимона наемными убийцами. [212]
Тем не менее, есть основания полагать, что правление как Писистрата, так и его сыновей было в целом мягким – до убийства Гиппарха Гармодием и Аристогитоном. После этого оставшийся в живых Гиппий стал подозрительным, жестоким и деспотичным в последние четыре года своего правления. Именно суровость этого заключительного периода оставила в афинском сознании [213] глубокую и непреходящую ненависть к династии в целом, о которой пишет Фукидид, хотя он и старается показать, что Писистрат и первоначально Гиппий ее не заслуживали.
Писистрат оставил после себя трёх законных сыновей – Гиппия, Гиппарха и Фессала: среди современников Фукидида в Афинах было распространено мнение, что Гиппарх был старшим из трёх и унаследовал власть отца; однако историк категорически опровергает это, утверждая на основании собственных знаний, что Гиппий был и старшим сыном, и преемником. Такое заявление с его стороны, подкреплённое некоторыми, хотя и не вполне убедительными доводами, служит достаточным основанием для нашего согласия – тем более что Геродот также поддерживает эту версию. Однако удивительна подобная степень исторической небрежности у афинской публики, включая, казалось бы, даже Платона [214], в отношении события важного и сравнительно недавнего. Чтобы объяснить это удивление и показать, почему имя Гиппарха вытеснило имя Гиппия в народной молве, Фукидид приводит знаменитую историю Гармодия и Аристогитона.
Эти двое афинских граждан [215], принадлежавших к древнему роду Гефиреев, были связаны взаимной дружбой и преданной близостью, которую греческие обычаи не осуждали. Гармодий, прекрасный юноша, был предметом страсти Гиппарха, который неоднократно делал ему предложения, но получал отказ. Когда Аристогитон узнал об этом, его охватили и ревность, и опасения, что отвергнутый поклонник применит силу – опасения, оправданные обычаями греческих тиранов [216] и отсутствием какой-либо защиты от произвола с их стороны. Под влиянием этих чувств он стал искать способы свергнуть тиранию.
Между тем Гиппарх, хотя и не планировал насилия, был так раздражён отказом Гармодия, что не мог успокоиться, не унизив его. Чтобы скрыть истинный мотив, он нанёс оскорбление не самому Гармодию, а его сестре. Однажды он повелел вызвать её для участия в религиозной процессии в числе канефор (несущих корзины), что было обычной практикой в Афинах; однако, когда девушка явилась на место сбора, её с презрением отвергли как недостойную такой почётной роли, а сам вызов объявили недействительным [217].
Это публичное оскорбление вызвало ярость Гармодия и ещё больше ожесточило Аристогитона. Оба решили во что бы то ни стало покончить с тиранией и вместе с немногими сообщниками разработали план нападения. Они дождались праздника Великих Панафиней, когда граждане в полном вооружении – со щитами и копьями – шествовали на акрополь, поскольку только в этот день вооружённое собрание не вызывало подозрений. Заговорщики, как и остальные, несли оружие, но также прятали кинжалы. Гармодий и Аристогитон взяли на себя убийство двух Писистратидов, а их сторонники должны были защитить их от наёмников. Хотя число заговорщиков было невелико, они рассчитывали на поддержку вооружённых сограждан, готовых сразиться за свободу, как только будет нанесён удар.
Когда в день праздника Гиппий в Керамике за городскими воротами выстраивал вооружённых граждан для процессии, окружённый телохранителями, Гармодий и Аристогитон приблизились с кинжалами, чтобы осуществить замысел. Но, подойдя ближе, они в ужасе увидели одного из своих сообщников в дружеской беседе с Гиппием (который был доступен для всех) и решили, что заговор раскрыт. Ожидая ареста и доведённые до отчаяния, они решили хотя бы отомстить Гиппарху. Они нашли его у городских ворот возле святилища Леокория и убили. Охранники тут же расправились с Гармодием, а Аристогитон, сначала спасённый толпой [114], позже был схвачен и погиб под пытками, отказываясь назвать имена сообщников [218]. Весть быстро долетела до Гиппия в Керамике, который узнал о ней раньше вооружённых граждан, ожидавших его приказа о начале процессии. С необычайным самообладанием он воспользовался этим драгоценным моментом предвидения и двинулся к ним, приказав на время отложить оружие и собраться на соседней площади. Они, ничего не подозревая, повиновались, и он тут же велел своей страже занять опустевшее оружие. Теперь он стал бесспорным хозяином положения и смог схватить всех граждан, которым не доверял, – особенно тех, у кого были кинжалы, которые не было принято носить во время Панафинейской процессии.
Таково памятное повествование о Гармодии и Аристогитоне, особенно ценное, поскольку целиком исходит от Фукидида [219]. Обладать великой властью, быть выше закона, внушать чрезвычайный страх – привилегия, столь желанная для титанов среди людей, что стоит обратить внимание на те случаи, когда она оборачивается для них несчастьем. Страх, внушённый Гиппархом, – страх перед замыслами, которых у него на самом деле не было, но которые он мог вынашивать и беспрепятственно осуществлять, – стал здесь главной причиной его гибели.
Заговор, описанный здесь, произошёл в 514 г. до н. э., на тринадцатом году правления Гиппия, которое продлилось ещё четыре года, до 510 г. до н. э. И эти последние четыре года, по убеждению афинской публики, считались всем его правлением; более того, многие совершали ещё большую историческую ошибку, полностью опуская эти четыре года и полагая, что заговор Гармодия и Аристогитона сверг режим Писистратидов и освободил Афины. И поэты, и философы разделяли эту веру, которая ясно выражена в прекрасной и популярной сколии (песне) на эту тему: двое друзей прославляются там как творцы афинской свободы – «они убили тирана и дали Афинам равные законы» [220]. Такой бесценный дар сам по себе был достаточен, чтобы увековечить в памяти последующей демократии тех, кто отдал свои жизни ради него. Кроме того, следует помнить, что их тесная связь, столь отталкивающая для современного читателя, в Афинах вызывала симпатию, так что история захватывала афинское воображение одновременно романтикой и патриотизмом. Гармодий и Аристогитон впоследствии почитались и как победители, и как первые мученики афинской свободы. В их честь вскоре после окончательного изгнания Писистратидов были воздвигнуты статуи; их потомкам были дарованы освобождение от налогов и общественных повинностей; и оратор, предложивший отмену таких привилегий в то время, когда их число возросло до злоупотребления, сделал единственное исключение именно для этого уважаемого рода [221]. А поскольку имя Гиппарха было повсеместно известно как имя убитого, становится ясно, почему некритичная публика считала его главой семьи Писистратидов – старшим сыном и преемником Писистрата, правящим тираном, – отодвигая Гиппия на второй план. Та же публика, вероятно, с ещё большим рвением верила во множество других анекдотов [222] об этом судьбоносном периоде, несмотря на их недостоверность.
Какими бы умеренными ни были действия Гиппия прежде, негодование из-за смерти брата и страх за собственную безопасность [223] теперь побудили его полностью отказаться от этой умеренности. Как Фукидид, так и Геродот свидетельствуют, и в этом нет сомнений, что теперь он использовал свою власть жестоко и беспощадно – он казнил значительное число граждан. Мы также встречаем утверждение, само по себе вполне правдоподобное и зафиксированное как у Павсания, так и у Плутарха – авторов менее авторитетных, но в данном случае достаточно достоверных, – что он подверг пыткам до смерти Леэну, любовницу Аристогитона, чтобы вырвать у нее сведения о заговорщиках и их планах [224]. Однако, понимая, что такая политика террора таит в себе опасность и для него самого, Гиппий стал искать поддержки на случай своего изгнания из Афин. С этой целью он стремился заручиться союзом с Дарием, царем Персии – союзом, чьи последствия проявятся в будущем. Эантид, сын Гиппокла, тирана Лампсака на Геллеспонте, пользовался тогда большим расположением персидского монарха, что побудило Гиппия отдать ему в жены свою дочь Архедику – честь, которую Фукидид считал немалой для лампсакенца [225]. Однако, чтобы объяснить, почему Гиппий остановил свой выбор именно на этом городе, необходимо сказать несколько слов о внешней политике Писистратидов.
[стр. 117] Уже упоминалось, что афиняне еще во времена поэта Алкея заняли Сигей в Троаде и вели там войну с митиленянами, так что их приобретения в этих краях относятся к периоду задолго до Писистрата. Вероятно, именно благодаря этому обстоятельству в начале его правления долонкские фракийцы, жители Херсонеса на противоположном берегу Геллеспонта, обратились к афинянам за помощью против своих могущественных соседей – абсинтского племени фракийцев. Так представился случай отправить колонистов, чтобы закрепить этот ценный полуостров за Афинами. Писистрат охотно поддержал этот план, а Мильтиад, сын Кипсела, знатный афинянин, тяготившийся его тиранией, с радостью взял на себя руководство экспедицией: его отъезд, как и отъезд других недовольных в качестве основателей колонии, устраивал все стороны. Согласно рассказу Геродота – одновременно и набожному, и живописному, – несомненно, передававшемуся как достоверный на ежегодных играх, которые херсонеситы даже во времена Геродота проводили в честь своего ойкиста, именно дельфийский бог направляет этот замысел и указывает на конкретного человека. Вожди страждущих долонков отправились в Дельфы, чтобы испросить помощи в привлечении греческих колонистов, и получили указание выбрать в качестве ойкиста того, кто первым окажет им гостеприимство по выходе из храма. Они отправились в путь и прошли по так называемой Священной дороге через Фокиду и Беотию в Афины, не получив ни одного приглашения. Наконец, они вошли в Афины и проходили мимо дома Мильтиада, когда тот сидел у входа. Увидев людей, чьи одежды и оружие выдавали в них чужеземцев, он пригласил их в дом и оказал им радушный прием. Тогда они объявили ему, что он и есть человек, указанный оракулом, и умоляли не отказываться от участия. Получив после личного обращения к оракулу утвердительный ответ, Мильтиад согласился и отплыл во главе отряда афинских переселенцев в Херсонес в качестве ойкиста [226].
Достигнув этого полуострова и став деспотом смешанного фракийско-афинского населения, он незамедлительно приступил к укреплению узкого перешейка стеной, протянувшейся от Кардии до Пактии на расстояние около четырех с половиной миль; таким образом, вторжения абсинфян были на время полностью пресечены, [227] хотя защита и не поддерживалась постоянно. Он также вступил в войну с Лампсаком на азиатской стороне пролива, но, к несчастью, попал в засаду и был взят в плен. Его жизнь спасло лишь немедленное вмешательство Креза, царя Лидии, подкрепленное решительными угрозами в адрес лампсакенцев, которые вынуждены были освободить пленника; Мильтиад снискал благосклонность этого правителя, хотя каким именно образом – неизвестно. Он умер бездетным некоторое время спустя, а его племянник Стесагор, унаследовавший власть, был убит через некоторое время после смерти Писистрата в Афинах. [228]
Экспедиция Мильтиада в Херсонес должна была состояться вскоре после первого узурпаторства Писистрата, поскольку даже его пленение лампсакенцами произошло до падения Креза (546 г. до н. э.). Однако поход Писистрата против Сигея в Троаде состоялся гораздо позже – вероятно, в третий, самый могущественный период его правления. Это место, по-видимому, перешло в руки митиленцев: Писистрат отвоевал его [229] и поставил там правителем своего незаконнорожденного сына Гегесистрата. Митиленцы могли быть ослаблены в это время (примерно между 537–527 гг. до н. э.) [p. 119] не только из-за продвижения персидских завоеваний на материке, но и из-за сокрушительного поражения, которое они потерпели от Поликрата и самосцев. [230] Гегесистрат удерживал этот пункт, несмотря на различные враждебные попытки, в течение всего правления Гиппия, так что афинские владения в тех краях включали в этот период как Херсонес, так и Сигей. [231] В первый из них Гиппий отправил Мильтиада, племянника первого ойкиста, в качестве правителя после смерти его брата Стесагора. Новый правитель обнаружил сильное недовольство на полуострове, но сумел подавить его, хитростью захватив и заключив в тюрьму знатных людей каждого города. Кроме того, он нанял отряд из пятисот наемников и женился на Гегесипиле, дочери фракийского царя Олора. [232] По-видимому, это произошло около 515 г. до н. э., когда второй Мильтиад прибыл в Херсонес. [233] Какое-то время он, вероятно, был вынужден покинуть его после скифского похода Дария из-за враждебности персов, но вернулся туда с начала Ионийского восстания и оставался примерно до 493 г. до н. э., то есть за два-три года до Марафонской битвы, в которой он выступил командующим афинским войском.
И Херсонес, и Сигей, хотя и оставались афинскими владениями, теперь были данниками и зависимыми от Персии. Именно в эти края Гиппий в последние годы своего правления, опасаясь изгнания из Афин, обращался за поддержкой: он рассчитывал на Сигей как на убежище и на Эантида, а также на Дария как на союзников. И те и другие его не подвели.
[p. 120] Те же обстоятельства, которые встревожили Гиппия и сделали его власть в Аттике одновременно более жестокой и ненавистной, конечно же, вселяли надежды в его врагов – афинских изгнанников во главе с могущественными Алкмеонидами. Полагая, что настал благоприятный момент, они даже осмелились вторгнуться в Аттику и заняли укрепленный пункт Липсидрий в горной цепи Парнеса, отделяющей Аттику от Беотии. [234] Но их планы полностью провалились: Гиппий разгромил их и изгнал из страны. Его власть теперь казалась незыблемой, поскольку лакедемоняне поддерживали с ним тесную дружбу, а македонский царь Аминта и фессалийцы были его союзниками. Тем не менее изгнанники, побежденные в открытом бою, преуспели в неожиданном маневре, который, благодаря стечению обстоятельств, привел к его падению.
В результате несчастного случая, произошедшего в 548 году до н. э., [235] Дельфийский храм загорелся и сгорел. Восстановление этого серьезного урона стало заботой всей Греции; однако требуемые расходы были чрезвычайно велики, и, по-видимому, сбор необходимой суммы занял много времени. Амфиктионы постановили, что четверть расходов должны были покрыть сами дельфийцы, которые оказались настолько обременены этим сбором, что разослали послов по всей Греции для сбора пожертвований и получили, среди прочих даров, от греческих поселенцев в Египте двадцать мин, а также большое количество квасцов от египетского царя Амасиса. Их щедрый благотворитель Крёз пал жертвой персов в 546 году до н. э., так что его сокровища больше не были для них доступны. Общая требуемая сумма составила триста талантов (что, вероятно, эквивалентно примерно 115 000 фунтов стерлингов), [236] – колоссальная сумма для сбора среди [p. 121] разрозненных греческих городов, не признававших единой верховной власти и среди которых было так трудно определить справедливую долю для каждого, чтобы удовлетворить все стороны. Однако в конце концов деньги были собраны, и Амфиктионы смогли заключить договор на строительство храма. Алкмеониды, находившиеся в изгнании после третьего и окончательного прихода к власти Писистрата, взяли подряд; и при его выполнении они не только провели работы наилучшим образом, но даже значительно превысили оговоренные условия, использовав паросский мрамор для фасада, тогда как по условиям договора требовался простой камень. [237] Как уже отмечалось в случае с Писистратом во время его изгнания, удивляет, что изгнанники, чье имущество было конфисковано, располагали такими значительными средствами, – если только не предположить, что Клисфен Алкмеонид, внук сикионского Клисфена, [238] унаследовал через мать состояние, не связанное с Аттикой, и хранил его в храме Геры на Самосе. Но факт остается фактом, и они стяжали громкую славу во всем эллинском мире благодаря щедрому выполнению столь важного предприятия. В том, что строительство заняло значительное время, сомневаться не приходится. Насколько можно судить, оно было завершено примерно через год или два после смерти Гиппарха – к 512 году до н. э., [p. 122] более чем через тридцать лет после пожара.
Для дельфийцев, в частности, восстановление их храма в столь превосходном масштабе было важнейшей из всех услуг, и их благодарность Алкмеонидам была соответственно велика. Отчасти благодаря этим чувствам, отчасти благодаря денежным подаркам, Клисфен смог использовать оракул в политических целях и призвать могущественную спартанскую армию против Гиппия. Всякий раз, когда спартанец обращался к оракулу – будь то по частному или государственному делу, – ответ жрицы был неизменным: «Афины должны быть освобождены». Постоянное повторение этого повеления в конце концов вынудило благочестивых лакедемонян неохотно подчиниться. Благоговение перед богом пересилило их крепкую дружбу с Писистратидами, и Анхимолий, сын Астера, был отправлен морем в Афины во главе спартанского отряда, чтобы изгнать их. Однако, высадившись в Фалере, он обнаружил, что те уже предупреждены и подготовлены, а также усилены тысячью всадников, специально затребованных у их союзников из Фессалии. На равнине Фалера эта конница оказалась особенно эффективной, и отряд Анхимолия был отброшен к кораблям с большими потерями, а сам он погиб. [239] Поражённое войско, вероятно, было немногочисленным, и его отступление лишь побудило лакедемонян отправить более крупные силы под личным командованием царя Клеомена, который на этот раз двинулся в Аттику по суше. Достигнув Афинской равнины, он столкнулся с фессалийской конницей, но так храбро отразил её атаку, что та немедленно отступила и вернулась на родину, бросив союзников с вероломством, нередким для фессалийского характера. Клеомен продолжил путь к Афинам без дальнейшего сопротивления и вместе с Алкмеонидами и недовольными афинянами овладел городом. В то время укрепления существовали только вокруг акрополя, куда Гиппий отступил со своими наёмниками и наиболее преданными ему гражданами, заранее обеспечив его провизией, так что он [стр. 123] был защищён как от голода, так и от штурма. Он мог бы продержаться против осаждающих, не готовых к длительной блокаде, но, не вполне уверенный в своём положении, попытался тайно вывезти своих детей из страны – однако те были захвачены в плен. Чтобы добиться их возвращения, Гиппий согласился на все требования и в течение пяти дней покинул Аттику, отправившись в Сигей в Троаде.
Так пала династия Писистратидов в 510 г. до н. э., через пятьдесят лет после первого узурпаторства её основателя. [240] Её свергли с помощью иностранцев, [241] причём тех самых, которые в душе желали ей добра, но выступили против из-за ошибочного чувства божественного повеления. Однако как обстоятельства её падения, так и последующие события показывают, что у неё было мало преданных сторонников в стране и что изгнание Гиппия было встречено подавляющим большинством афинян с единодушным одобрением. Его семья и главные приверженцы последовали за ним в изгнание – вероятно, как само собой разумеющееся, без формального приговора. На акрополе был воздвигнут алтарь с колонной, увековечивающий как прошлые преступления свергнутой династии, так и имена всех её членов. [242] [стр. 126]
Глава XXXI.
ГРЕЧЕСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ПИСИСТРАТИДОВ. – РЕВОЛЮЦИЯ КЛИСФЕНА И УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ.
С изгнанием Гиппия исчез и наёмный фракийский гарнизон, на который он и его отец опирались как для защиты, так и для поддержания власти; Клеомен со своим лакедемонским войском также удалился, задержавшись лишь настолько, чтобы установить личную дружбу – впоследствии повлёкшую важные последствия – между спартанским царём и афинянином Исагором. Таким образом, афиняне остались [стр. 127] одни, без какого-либо иностранного вмешательства, которое могло бы ограничить их в политических решениях.
В предыдущей главе упоминалось, что Писистратиды в основном сохраняли формы Солоновой конституции: девять архонтов и пробулевтический (предварительно обсуждающий) Совет Четырёхсот (оба ежегодно сменяемые) продолжали существовать, наряду с периодическими собраниями народа – или, точнее, той его части, которая состояла в родах, фратриях и четырёх ионийских филах. Тимократическая классификация Солона (или четырёхступенчатая шкала доходов и распределения политических прав в соответствии с ней) также сохранялась – но всё это оставалось под контролем и служило целям правящего семейства, которое всегда держало одного из своих в числе главных администраторов и неизменно удерживало за собой акрополь, а также наёмные войска.











