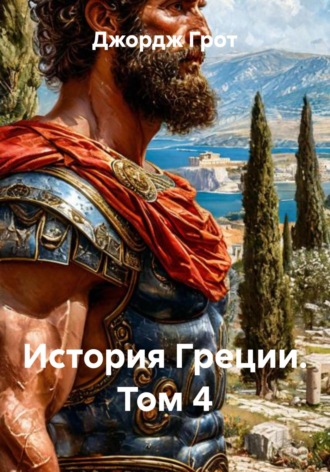
Полная версия
История Греции. Том 4
Когда подавляющее давление исчезло с изгнанием Гиппия, порабощённые формы немедленно наполнились свободой и реальностью. Снова появилось то, чего Аттика не знала тридцать лет – явные политические партии и открытое противостояние между двумя лидерами: с одной стороны, Исагор, сын Тисандра, человек знатного происхождения, с другой – Клисфен из рода Алкмеонидов, не менее знатный и к тому же пользовавшийся в тот момент благодарностью сограждан как самый стойкий и эффективный противник свергнутых тиранов. Каким образом это противостояние велось, нам не сообщается. По-видимому, оно не было полностью мирным; но, во всяком случае, Клисфен потерпел неудачу, и, как говорит историк, «в результате этого поражения он привлёк в союзники народ, который до этого был исключён из всего» [243]. Его союз с народом положил начало афинской демократии: это была настоящая и важная революция.
Политическое право, или статус афинского гражданина, как до Солона, так и после него, ограничивалось первоначальными [стр. 128] четырьмя ионийскими филами, каждая из которых представляла собой совокупность замкнутых корпораций или квази-семей – родов и фратрий. Таким образом, никто из жителей Аттики, кроме тех, кто входил в какой-либо род или фратрию, не имел доли в политических правах. Такие непривилегированные жители, вероятно, всегда были многочисленны, и их число росло за счёт новых переселенцев; кроме того, они в основном сосредотачивались в Афинах и Пирее, куда обычно стекались мигранты. Клисфен разрушил существующую стену привилегий и даровал политические права исключённой массе. Но этого нельзя было достичь путём включения их в новые роды или фратрии, созданные в дополнение к старым, поскольку родовая связь основывалась на древней вере и чувствах, которые в тогдашнем состоянии греческого сознания нельзя было внезапно вызвать как объединяющую силу для чужаков. Это можно было сделать, только полностью отделив политические права от ионийских фил, а также от родов, их составлявших, и перераспределив население по новым филам, имеющим исключительно политический характер и цель.
Соответственно, Клисфен упразднил четыре ионийские филы и создал вместо них десять новых, основанных на ином принципе, независимом от родов и фратрий. Каждая из его новых фил включала определённое число демов (округов) с зарегистрированными собственниками и жителями в каждом из них. Демы в совокупности охватывали всю территорию Аттики, так что клисфеновская конституция предоставляла политические права всем свободным коренным афинянам; и не только им, но и многим метекам, и даже некоторым из высшего слоя рабов [244]. Если оставить в стороне общую массу рабов и рассматривать только свободное население, то по сути это была система, приближающаяся к всеобщему избирательному праву – как политическому, так и судебному.
Легкомысленный и беглый тон, в котором Геродот сообщает об этом памятном перевороте, заставляет нас недооценивать его истинное значение. Он останавливается главным образом на изменении количества и названий фил: Клисфен, говорит он, так презирал ионийцев, что не потерпел сохранения в Аттике четырёх фил, существовавших в ионийских городах, [245] получивших свои названия от четырёх сыновей Иона, – подобно тому как его дед, сикионский Клисфен, ненавидя дорийцев, унизил и дал насмешливые прозвища трём дорийским филам в Сикионе. Таково объяснение Геродота, который, по-видимому, и сам питал некоторое презрение к ионийцам [246] и потому приписывал его другим без достаточных оснований. Однако цель Клисфена была гораздо шире: он упразднил четыре древние филы не потому, что они были ионийскими, а потому, что они перестали соответствовать современному состоянию афинского народа, и потому, что их отмена обеспечила ему и его политическому плану новых и искренних союзников. И действительно, если мы рассмотрим обстоятельства дела, то увидим весьма очевидные причины, подтолкнувшие его к этому шагу.
Более тридцати лет – целое поколение – старый государственный строй был лишь пустой формальностью, действовавшей лишь в угоду правящей династии и лишённой всякой реальной власти. Поэтому можно с уверенностью сказать, что и Совет Четырёхсот, и народное собрание, лишённые той свободы слова, которая придавала им [стр. 130] не только всю их ценность, но и всю их привлекательность, утратили общественное уважение и, вероятно, посещались лишь немногими приверженцами; таким образом, различие между полноправными гражданами и теми, кто таковыми не являлся, – между членами четырёх старых фил и не членами – за этот период практически стёрлось. В этом, собственно, и заключалась единственная польза, которую, кажется, принесла греческая тирания: она смешала привилегированных и непривилегированных под одной общей для всех принудительной властью, так что различие между ними нелегко было восстановить после падения тирании.
Как только Гиппий был изгнан, совет и народное собрание вновь обрели силу. Но если бы они были восстановлены на прежних основаниях, включая лишь членов четырёх фил, этим филам было бы возвращено привилегированное положение, которое они на деле утратили так давно, что его возрождение показалось бы ненавистным новшеством, и остальное население, вероятно, не подчинилось бы этому. Если же принять во внимание политическое возбуждение того момента – возвращение одних из изгнания и изгнание других, излияние долго сдерживаемой ненависти, отчасти направленной против самих этих институтов, чьё разложение позволило тирану удерживать власть, – то станет ясно, что как благоразумие, так и патриотизм требовали принятия более широкой системы правления. Клисфен приобрёл некоторую мудрость за годы изгнания; и поскольку он, вероятно, ещё долгое время после введения своей новой конституции оставался главным советником своих сограждан, их необычайный успех можно считать свидетельством не только их мужества и единодушия, но и его дальновидности и умения.
Также нет оснований отрицать, что он совершил более великодушный шаг вперёд, чем тот, что подразумевается в буквальном изложении Геродота. Вместо того чтобы быть вынужденным против своей воли покупать народную поддержку, предлагая эту новую конституцию, Клисфен мог предложить её ещё во время обсуждений, последовавших сразу за отречением Гиппия; так что её отвержение стало причиной раздора – и никакой другой причины не упоминается – между ним и Исагором. Последний, без сомнения, нашёл достаточную поддержку в существовавших совете и народном собрании, чтобы воспрепятствовать её принятию без прямого обращения к народу, и его противодействие нетрудно [стр. 131] понять. Ибо, сколь необходима ни была эта перемена, она не переставала быть ударом по древним афинским представлениям. Она коренным образом меняла саму идею филы, которая теперь становилась объединением демов, а не родов, – содемотов, а не сородичей; и таким образом разрушались те религиозные, социальные и политические связи между целым и частями старой системы, которые глубоко воздействовали на сознание каждого афинянина старого закала.
Патриции в Риме, составлявшие роды и курии, – и плебеи, не имевшие доли в этих корпорациях, – долгое время образовывали две отдельные и противоборствующие части одного города, каждая со своей собственной организацией. Лишь постепенно плебеи завоёвывали позиции, а политическое значение патрицианского рода долго сохранялось наряду с плебейской трибой и независимо от неё. Точно так же в итальянских и германских городах Средних веков патрицианские семьи отказывались расстаться со своей отдельной политической идентичностью, когда рядом с ними выросли цехи; даже будучи вынужденными уступить часть своей власти, они продолжали оставаться отдельным братством и не желали подчиняться перераспределению под новыми категориями и наименованиями наряду с торговцами, которые обрели богатство и влияние. [247]
Но реформа Клисфена осуществила эту перемену разом, как в названии, так и в сути. В некоторых случаях, правда, название рода сохранялось как название дема, но даже тогда старые родичи включались в состав остальных демотов без различия; и афинский народ, рассматриваемый с политической точки зрения, стал, таким образом, единым целым, распределённым для удобства на части – численные, территориальные и политически равные. Однако следует помнить, что, хотя четыре ионийские филы были упразднены, составлявшие их роды и фратрии остались нетронутыми и продолжали существовать как семейные и религиозные объединения, хотя и лишённые политических привилегий.
Десять вновь созданных фил, расположенных в установленном порядке старшинства, назывались: Эрехтеида, Эгеида, Пандионида [стр. 132], Леонтида, Акамантида, Энеида, Кекропида, Гиппотоонтида, Эантида, Антиохида – имена, заимствованные главным образом от почитаемых героев аттических легенд [248]. Это число оставалось неизменным до 305 года до н. э., когда оно увеличилось до двенадцати благодаря добавлению двух новых фил – Антигониды и Деметриады, впоследствии переименованных в Птолемаиду и Атталиду. Уже сами названия этих последних, взятые от имен живых царей, а не легендарных героев, выдают переход Афин от свободы к подчинению.
Каждая фила включала определенное количество демов – округов, приходов или поселений в Аттике. Однако общее число этих демов точно не установлено: хотя мы знаем, что во времена Полемона (III век до н. э.) их было 174, нельзя с уверенностью утверждать, что их количество всегда оставалось неизменным. Некоторые исследователи интерпретируют слова Геродота как указание на то, что Клисфен изначально признавал ровно 100 демов, распределенных поровну между десятью филами [249]. Однако такая трактовка сомнительна, да и сам факт маловероятен – отчасти потому, что если бы изменение числа было столь значительным (со 100 до 174), то наверняка сохранились бы прямые свидетельства этого, а отчасти потому, что у Клисфена была причина уравнять количество граждан в филах, но не было причины строго уравнивать число демов в каждой из них.
Известно, насколько сильны местные традиции и как устойчивы границы приходов или округов. При отсутствии [стр. 133] доказательств обратного можно разумно предположить, что число и границы демов, установленные или измененные Клисфеном, впоследствии оставались почти неизменными – по крайней мере, до увеличения количества фил.
Однако есть другой, более определенный и важный момент. Демы, которые Клисфен распределил по филам, ни в одном случае не были все соседними друг с другом, поэтому фила в целом не соответствовала какой-либо компактной территории и не могла иметь собственных локальных интересов, отличных от интересов всего сообщества. Такое систематическое избегание расколов на почве соседства оказывается особенно важным, если вспомнить, что конфликты Паралии, Диакрии и Педии в предыдущем веке возникли именно из-за местных распрей, хотя, несомненно, разжигались честолюбием отдельных личностей.
Кроме того, только благодаря этой мере удалось предотвратить доминирование города и формирование городских интересов, противопоставленных интересам сельской местности, – что неизбежно произошло бы, если бы город составлял отдельный дем или отдельную филу. Клисфен разделил город (или застал его уже разделенным) на несколько демов и распределил их по разным филам, тогда как Пирей и Фалер, каждый из которых составлял отдельный дем, также были отнесены к разным филам. Таким образом, не было локальных преимуществ, которые могли бы обеспечить преобладание одной филы над остальными или вызвать борьбу за такое преобладание [250].
[стр. 134] Каждый дем имел свои местные интересы, но фила была лишь совокупностью демов для политических, военных и религиозных целей – без отдельных надежд или опасений, оторванных от государства в целом. У каждой филы была своя часовня, священные обряды, праздники и общий фонд для таких собраний в честь своего героя-эпонима, управляемый выбранными её членами [251]. Статуи всех десяти героев-эпонимов, братских покровителей демократии, были установлены на самом видном месте афинской агоры. В дальнейшем функционировании афинского правительства мы не увидим признаков разрушительных местных раздоров – значительное улучшение по сравнению с конфликтами предыдущего века, отчасти обусловленное отсутствием общей границы между демами одной филы.
Дем теперь стал первичным составным элементом государства как в отношении лиц, так и имущества. У него был собственный демарх, список зарегистрированных граждан, коллективная собственность, публичные собрания и религиозные обряды, а также налоги, которые он сам собирал и распределял. Список полноправных граждан [252] велся демархом, а внесение новых граждан происходило на собрании демотов, где законные сыновья включались в список по достижении восемнадцати лет, а усыновленные – в любое время при представлении и присяге усыновителя. Гражданство могло быть предоставлено только публичным голосованием народа, но состоятельные не-граждане иногда могли обойти этот закон и купить место в списке какого-нибудь бедного дема, вероятно, через фиктивное усыновление. На [стр. 135] собраниях демотов список пересматривался, и иногда случалось, что некоторые имена вычеркивались – в таком случае лишенный прав мог апеллировать к народному суду. [253] Однако настолько велика была местная административная власть этих демов, что их называют заменой [254] наукрарий при Клисфеновской системе, в отличие от Солоновской и досолоновской. Триттии и наукрарии, хотя номинально сохранились, и последние (как утверждают некоторые) даже увеличились в числе с сорока восьми до пятидесяти, с этого времени утратили свое общественное значение.
Клисфен сохранил, но одновременно модифицировал и расширил все основные черты политического устройства Солона: народное собрание, или экклезию, – предварительно совещающийся совет, состоявший из представителей всех фил, – а также обычай ежегодных выборов и ежегодной отчетности магистратов перед экклезией. Теперь, в момент замешательства и разногласий, должна была в полной мере осознаваться ценность наличия таких уже существующих институтов, на которых можно было строить. Но Клисфенова экклезия приобрела новую силу и почти новый характер благодаря значительному увеличению числа граждан, имевших право участвовать в ней, тогда как ежегодно сменяемый совет, вместо четырехсот членов, избиравшихся в равной пропорции от каждой из старых четырех фил, был расширен до пятисот, избиравшихся поровну от каждой из новых десяти фил. Теперь он предстает перед нами под названием Совета Пятисот как активный и незаменимый орган на протяжении всей афинской демократии, и, кажется, именно тогда (хотя точное время введения этой практики не может быть установлено) началась практика определения имен сенаторов жеребьевкой. И совет, устроенный таким образом, и народное собрание стали гораздо более народными и энергичными, чем при первоначальном устройстве Солона.
Новое устройство фил, изменившее состав ежегодного совета, столь же прямо преобразовало и [стр. 136] военную организацию государства, как в отношении солдат, так и командиров. Граждане, призываемые на военную службу, теперь строились по филам, – каждая фила имела своих таксиархов в качестве командиров гоплитов и своего филарха во главе всадников. Более того, теперь впервые были созданы десять стратегов, или генералов, по одному от каждой филы, и два гиппарха для верховного командования конницей. При прежнем афинском устройстве командование военными силами, по-видимому, принадлежало третьему архонту, или полемарху, тогда как стратегов не существовало; и даже после их создания при Клисфеновской конституции полемарх сохранял совместное с ними право командования – как мы узнаем из рассказа о битве при Марафоне, где Каллимах, полемарх, не только имел равный голос в военном совете наряду с десятью стратегами, но даже занимал почетное место на правом фланге. [255] Десять ежегодно сменяемых генералов (как и десять фил) являются, таким образом, плодом Клисфеновской конституции, которая в то же время была значительно усилена и защищена такой реорганизацией военных сил. По мере развития демократии функции стратегов расширялись, и постепенно они приобрели не только руководство военными и морскими делами, но и общее управление внешними сношениями города, – тогда как девять архонтов, включая полемарха, постепенно утратили ту полноту исполнительной и судебной власти, которой они когда-то обладали, опустившись до простого надзора за порядком и предварительного судопроизводства. Ограничиваемые с одной стороны стратегами, они с другой теряли эффективность из-за появления народных дикастерий, или многочисленных судов присяжных. Мы можем быть уверены, что эти народные дикастерии не могли собираться или действовать при деспотизме Писистратидов и что судебные дела города в то время должны были рассматриваться частично Ареопагом, частично архонтами, – возможно, с номинальной ответственностью последних в конце их годичного срока перед покорной экклезией. И даже если допустить, как утверждают некоторые авторы, что практика прямого народного суда, помимо этой ежегодной отчетности, была частично введена Солоном, она должна была [стр. 137] прекратиться во время длительного подавления со стороны сменившей его династии. Но всплеск народного духа, придавший силу Клисфену, несомненно, вовлек народ в прямое участие в качестве присяжных в совокупной Гелиэе не меньше, чем в качестве голосующих в экклезии, – и таким образом началось изменение, которое способствовало снижению роли архонтов от их первоначального статуса судей до более скромной функции предварительных следователей и председателей суда присяжных. Созыв многочисленных судов присяжных, начавшийся сначала с общего собрания присяжных граждан старше тридцати лет, а затем разделивший их на отдельные группы для рассмотрения конкретных дел, постепенно становился более частым и систематизированным, пока, наконец, во времена Перикла он не стал оплачиваться небольшим жалованием и не превратился в одну из самых заметных черт афинской жизни. Мы не можем детально проследить отдельные шаги, которыми было достигнуто это окончательное развитие, и как судебная компетенция архонта сократилась до права налагать лишь небольшой штраф, но первые шаги этого процесса обнаруживаются в революции Клисфена, а завершение, по-видимому, произошло благодаря реформам Перикла. О функции, осуществляемой девятью архонтами, а также многими другими магистратами и должностными лицами в Афинах, – созыве дикастерии, или суда присяжных, вынесении дел на рассмотрение и председательстве на суде, – функции, составлявшей один из признаков высшей магистратуры и называвшейся Гегемонией, или председательством в дикастерии, – я расскажу подробнее в дальнейшем. Сейчас же я хочу лишь показать расширяющуюся сферу деятельности, в которую народ вступил на этом памятном повороте событий.
Финансовая система города в эту эпоху претерпела столь же радикальные изменения, как и военная: фактически назначение магистратов и должностных лиц по десяти человекам, по одному от каждой филы, стало обычной практикой. Коллегия из десяти человек, называемых Аподектами, получила верховное управление казной, ведя переговоры с откупщиками относительно тех частей доходов, которые сдавались на откуп, принимая все налоги от сборщиков и распределяя их по утвержденным назначениям. Первое назначение этой коллегии прямо приписывается Клисфену [256], как замена неких лиц, именовавшихся Колакретами, которые [стр. 138] ранее выполняли те же функции и теперь сохранялись лишь для вспомогательных обязанностей. Впоследствии обязанности аподектов были ограничены приемом государственных доходов и передачей их десяти казначеям богини Афины, которые хранили их во внутреннем помещении Парфенона и расходовали по мере необходимости; но эта более сложная система не может быть отнесена к Клисфену.
С его времени Совет Пятисот также значительно выходит за рамки первоначальной обязанности – подготовки вопросов для обсуждения в экклесии: он охватывает, помимо этого, широкий круг административных и надзорных функций, которые едва ли поддаются четкому определению. Его заседания становятся постоянными, за исключением особых праздников, а год делится на десять частей, называемых пританиями, – пятьдесят советников от каждой филы по очереди несут обязанность постоянного присутствия в течение одной притании и в это время получают название Пританов. Очередность фил в этих обязанностях ежегодно определялась жребием. В обычном аттическом году из двенадцати лунных месяцев, или 354 дней, шесть пританий включали 35 дней, а четыре – 36. В високосные годы из тринадцати месяцев число дней составляло 38 и 39 соответственно. Более того, существовало дальнейшее деление притании на пять периодов по семь дней каждый, а пятидесяти советников от филы – на пять групп по десять человек: каждая группа председательствовала в совете в течение одного семидневного периода, ежедневно выбирая по жребию из своего состава нового председателя, именуемого Эпистатом, которому на время его должностного дня вверялись ключи от акрополя и казны, а также городская печать. Остальные советники, не принадлежавшие к пританирующей филе, могли, конечно, присутствовать, если желали, но присутствие девяти из них – по одному от каждой из остальных девяти фил – было строго обязательным для действительности заседания и обеспечения постоянного представительства всего народа.
В более поздние времена, известные нам по речам великих ораторов, экклесия, или формальное собрание граждан, созывалась регулярно четыре раза в течение каждой притании, а при необходимости и чаще, – обычно Советом, хотя стратеги также имели право созывать ее по собственной инициативе. Ей председательствовали пританы, а вопросы на голосование ставил их эпистат, или председатель; однако девять представителей непританирующих фил, разумеется, всегда присутствовали и, по-видимому, уже ко временам ораторов взяли на себя руководство собранием, включая право выносить вопросы на голосование [257], – полностью или частично оттеснив пятьдесят пританов. Однако если мы обратимся к первоначальной организации экклесии Клисфеном (я уже отмечал, что толкователи афинского государственного устройства слишком часто пренебрегают хронологическими различиями, предполагая, что практика, существовавшая между 400–330 гг. до н. э., была таковой всегда), то вероятным покажется, что он предусмотрел одно регулярное собрание в течение каждой притании и не более, предоставив Совету и стратегам право созывать чрезвычайные собрания в случае необходимости, но установив одно заседание экклесии в течение каждой притании, или десять в год, как регулярную государственную потребность. Как часто древняя экклесия созывалась в период между Солоном и Писистратом, мы точно сказать не можем, – вероятно, лишь несколько раз в году. Но при Писистратидах ее созыв свелся к чисто формальной, не имеющей значения процедуре, и восстановление ее Клисфеном – не только с полными законодательными полномочиями, но и при условии заблаговременного уведомления и подготовки вопросов, а также с надежными гарантиями порядка, – само по себе стало революцией, глубоко впечатлившей каждого афинского гражданина.
Чтобы экклесия стала эффективной, было необходимо, чтобы ее заседания были как частыми, так и свободными. Люди таким образом обучались обязанностям и ораторов, и слушателей, и каждый гражданин, чувствуя, что участвует в принятии решений, связывал свою безопасность и благополучие с волей большинства и привыкал к идее суверенной власти, которой он не мог и не должен был сопротивляться. Это была новая идея для афинского сознания, и с ней пришли чувства, освящающие свободное слово и равный закон, – слова, которые ни один афинский гражданин впоследствии не мог слышать равнодушно, – а также осознание всего государства как единого и неделимого целого, которое всегда преобладало, хотя и не вытесняло полностью, местные и родовые связи. Не будет преувеличением сказать, что эти патриотические и возвышающие порывы стали новым явлением в афинском сознании, которому даже во времена Солона не было аналога. Они были отчасти разожжены сильной реакцией против Писистратидов, но в еще большей степени тем, что их противник, Клисфен, использовал это преходящее настроение наилучшим образом, придав ему прочную постоянность и четкую позитивную цель благодаря демократическим элементам, явно выраженным в его конституции.
Его имя занимает в истории меньшее место, чем можно было бы ожидать, потому что он считался лишь восстановителем государственного устройства Солона после его свержения Писистратом. Вероятно, он сам преследовал эту цель, поскольку это облегчало успех его предложений, и если ограничиться буквой дела, то это во многом соответствует истине, ведь ежегодный совет и экклесия – оба института солоновские, – но оба в его реформе обрели совершенно новые условия и выросли до гигантских масштабов. Насколько мощным был всплеск афинского энтузиазма, мгновенно изменившего положение Афин среди греческих держав, мы вскоре услышим из уст Геродота и увидим еще более ясно в фактах его истории.











