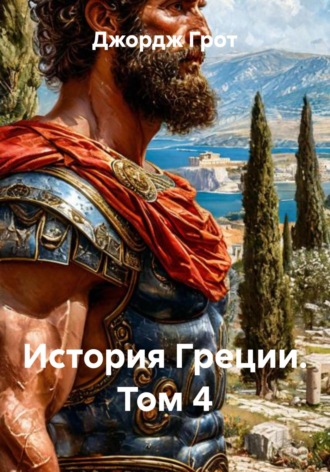
Полная версия
История Греции. Том 4
Переходя к исторической Греции VII века до н. э., мы находим свидетельства о двух праздниках, уже тогда весьма значительных и посещаемых греками из многих разных городов и областей, – празднике на Делосе в честь Аполлона, главном месте встречи ионийцев по всему Эгейскому морю, и Олимпийских играх. Гомеровский гимн Делосскому Аполлону, который следует отнести ко времени ранее 600 г. до н. э., с особым ударением описывает великолепие Делосского праздника – не имевшего себе равных во всей Греции, как видно, в течение всего первого периода этой истории, по богатству, роскоши одежд и разнообразию представлений как поэтического гения, так и телесной ловкости, [104] – вероятно, в то время не уступавшего, если не превосходившего, Олимпийские игры. Полная и непреходящая слава этого общеионийского праздника на Делосе – одна из главных примет первого периода греческой истории, до относительного упадка ионийцев в связи с возвышением Персии: он отмечался периодически каждые четыре года в честь Аполлона и Артемиды. От Олимпийских игр его отличали два обстоятельства, заслуживающих внимания: во-первых, он включал состязания не только в гимнастике, но и в музыкальном и поэтическом мастерстве, тогда как в Олимпии последние отсутствовали; во-вторых, на нём присутствовали без различения мужчины, женщины и дети, тогда как женщины формально не допускались на Олимпийские церемонии. [105] Это исключение могло отчасти объясняться внутренним положением Олимпии, менее доступной для женщин, чем остров Делос; но даже с учётом этого обстоятельства, оба различия указывают на более грубый характер этоло-дорийцев в Пелопоннесе.
Делосский праздник, сильно сократившийся в период подчинения малоазийских и островных греков Персии, был возрождён впоследствии Афинами во время их империи, когда они всеми способами стремились укрепить свою центральную власть в [p. 55] Эгейском море. Но хотя под их управлением он продолжал пышно отмечаться, он так и не вернул себе того безусловного священного статуса и массового посещения, которые, как свидетельствует гомеровский гимн Аполлону, были присущи ему в более ранний период.
Совершенно иной была судьба Олимпийского праздника – на берегах Алфея [106] в Пелопоннесе, близ древнего оракула храма Олимпийского Зевса, – который не только развивался беспрерывно от скромных истоков до максимальной общегреческой значимости, но даже сохранял свои толпы посетителей и свою славу на протяжении многих веков после утраты Грецией свободы. Окончательно он был упразднен лишь после более чем одиннадцати веков существования указом христианского императора Феодосия в 394 году н. э.
Я уже рассказывал в предыдущем томе этой истории о попытке аргосского тирана Фидеона вернуть пизатам или присвоить себе управление этим праздником – событие, доказывающее важность праздника в Пелопоннесе уже в 740 году до н. э. В то время и в последующие годы он, по-видимому, посещался главным образом, если не исключительно, жителями центрального и западного Пелопоннеса – спартанцами, мессенянами, аркадянами, трифилийцами, пизатами, элейцами и ахейцами [107], – и служил важным связующим звеном между этоло-элейцами, их привилегиями как агонофетов, организующих и председательствующих на празднике, и Спартой.
Начиная с 720 года до н. э. мы находим явные свидетельства постепенного участия более далеких греков – коринфян, мегарцев, беотийцев, афинян и даже смирнцев из Азии.
Мы видим и другое доказательство растущей значимости в увеличении числа и разнообразия состязаний, предлагаемых зрителям, а также в замене материальных наград, которые первоначально вручались победителям на Олимпийских и других греческих праздниках, простым венком из оливы – почетной наградой. Скромное устройство Олимпийских игр изначально включало лишь бег на измеренной дистанции, называемой стадионом. Непрерывный список победителей в беге тщательно велся и сохранялся элейцами, начиная с Корэба в 776 году до н. э., и с III века до н. э. использовался хронологами для установления последовательности греческих событий.
На 7-й Олимпиаде после Корэба мессенец Дайкл впервые получил за победу в беге лишь венок из священной оливы близ Олимпии [108]: честь провозглашения победителем считалась достаточной без денежного вознаграждения. Однако до 14-й Олимпиады зрители не видели других состязаний, кроме простого бега на стадионе.
Тогда впервые был введен двойной бег (диаулос) – туда и обратно по дорожке. На следующей, 15-й Олимпиаде (720 год до н. э.), добавился долгий бег (долихос) – несколько кругов по стадиону. Таким образом, существовало три вида бега: простой стадион, двойной стадион (диаулос) и долгий бег (долихос), и так продолжалось до 18-й Олимпиады, когда добавились борьба и сложный пентатлон, включавший прыжки, бег, метание диска, копья и борьбу.
Дальнейшие новшества появились на 23-й Олимпиаде (688 год до н. э.) – кулачный бой, а на 25-й (680 год до н. э.) – гонки на колесницах с четверкой взрослых лошадей. Это последнее добавление заслуживает особого внимания не только потому, что разнообразило зрелище участием лошадей, но и потому, что привлекло совершенно новый класс участников – богатых мужчин и женщин, владевших лучшими скакунами и нанимавших искуснейших возниц, не обладая при этом личным превосходством или физическими данными [109].
Огромная демонстрация богатства, которую позволяли себе владельцы колесниц, не только свидетельствовала о растущей значимости Олимпийских игр, но и сама способствовала их возвышению, усиливая интерес зрителей.
Еще два состязания добавились на 33-й Олимпиаде (648 год до н. э.) – панкратион (кулачный бой и борьба вместе) [110], где руки были без жестких кожаных перчаток [111], которые делали удары кулачных бойцов страшнее, но мешали им хватать и удерживать противника, – и скачки на одиночных лошадях.
Позже вводились и другие новшества, которые нет нужды перечислять полностью: бег гоплитов в полном вооружении со щитами, различные состязания между мальчиками (аналогичные взрослым) и между жеребятами (подобные скачкам взрослых лошадей).
На пике своей популярности Олимпийские игры длились пять дней, но до 77-й Олимпиады все состязания умещались в один день – начинаясь на рассвете и иногда заканчиваясь лишь в сумерках [112].
77-я Олимпиада последовала сразу после успешного изгнания персидских захватчиков из Греции, когда панэллинское чувство было обострено сопротивлением общему врагу. Легко представить, что это был подходящий момент для придания большей торжественности главному национальному празднику.
Таким образом, мы можем частично проследить этапы, в течение двух столетий после 776 г. до н. э., когда праздник Олимпийского Зевса в Писатиде постепенно превратился из местного в общегреческий и приобрёл силу притяжения, способную временно объединить разрозненные части Эллады – от Марселя до Трапезунда. В этой важной роли он недолго оставался единственным. В течение VI века до н. э. три других праздника, изначально локальных, последовательно приобрели общегреческий статус – Пифийские игры близ Дельф, Истмийские – близ Коринфа и Немейские – близ Клеон, между Сикионом и Аргосом.
Что касается Пифийского праздника, мы находим краткое упоминание о конкретных событиях и лицах, благодаря которым произошли его реорганизация и расширение, – упоминание тем более интересное, что сами эти события являются проявлением чего-то вроде общеэллинского патриотизма, почти единственного в ту эпоху, когда действовали в основном лишь узкогородские интересы. Во время создания гомеровского гимна «Аполлону Дельфинию» (вероятно, в VII веке до н. э.) Пифийский праздник ещё не приобрёл значительной известности. Богатый и священный храм Аполлона тогда был исключительно оракулом, созданным для того, чтобы сообщать благочестивым вопрошающим «советы бессмертных». Множество посетителей приходили к нему за предсказаниями, а также для жертвоприношений и приношения дорогих даров; но хотя богу нравился звук кифары, сопровождающий пение пеанов, он отнюдь не стремился поощрять скачки и гонки колесниц в окрестностях – более того, этот псалмопевец считал, что ржание лошадей было бы «помехой», питьё мулов – осквернением священных источников, а демонстрация искусно построенных колесниц – предосудительной [113], поскольку отвлекала внимание зрителей от великого храма и его богатств.
[стр. 59] От таких неудобств бог был защищён расположением своего святилища «в скалистой Пифо» – неровном и труднодоступном месте небольших размеров, укрытом на южном склоне Парнаса, примерно на две тысячи футов выше уровня моря, тогда как самые высокие вершины Парнаса достигают почти восьми тысяч футов. Местоположение было чрезвычайно впечатляющим, но по природе своей непригодным для скопления значительного числа зрителей – совершенно неподходящим для гонок колесниц – и стало пригодным лишь благодаря позднейшему искусству и затратам на театр и стадион; первоначальный стадион, когда его впервые устроили, находился на равнине внизу. Оно давало мало средств к существованию, но жертвы и дары посетителей позволяли служителям храма жить в достатке [114] и постепенно собирали вокруг него поселение.
Близ святилища Пифо, на той же высоте, располагался древний фокидский город Крисса, на выступе Парнаса – нависающий сверху линией скальных утёсов, называемых Федриады, и сам нависающий над глубоким ущельем, по которому течёт река Плейст. По другую сторону этой реки поднимается крутая гора Кирфис, выступающая на юг в Коринфский залив, – река достигает этого залива через обширную Криссейскую (или Киррейскую) равнину, которая простирается на запад почти до локрийского города Амфиссы; равнина в основном плодородная, хотя менее всего в [стр. 60] восточной части, непосредственно под Кирфисом, где располагался портовый город Кирра [115].
Храм, оракул и богатства Пифо относятся к самым ранним периодам греческой древности; но восьмилетнее празднество в честь бога включало поначалу лишь состязание певцов, исполнявших под кифару пеаны. Как уже упоминалось в предыдущем томе, амфиктиония проводила одно из своих полугодовых собраний близ храма Пифо, а другое – у Фермопил.
В те ранние времена, когда был составлен гомеровский гимн Аполлону, город Крисса, по-видимому, был велик и могуществен, владея всей обширной равниной между Парнасом, Кирфисом и заливом, которому он дал своё имя, – а также, что было не менее ценно, соседним святилищем самой Пифо, которое гимн отождествляет с Криссой, не указывая Дельфы как отдельное место. Криссейцы, несомненно, извлекали большую выгоду от множества посетителей, прибывавших в Дельфы как по суше, так и по морю, и Кирра изначально была лишь названием их порта. Однако постепенно порт, по-видимому, рос в значении за счёт города, подобно тому как Аполлония и Птолемаис сравнялись с Киренами и Баркой, а Плимут-Док разросся в Девонпорт; в то же время святилище Пифо с его администраторами разрослось в город Дельфы и стало претендовать на самостоятельное существование.
Первоначальные отношения между Криссой, Киррой и Дельфами в итоге изменились: первая пришла в упадок, а две последние возвысились. Криссейцы лишились управления храмом, которое перешло к дельфийцам, а также доходов от посетителей, чьи траты обогащали жителей Кирры. Крисса была древним городом фокидского имени и могла похвастаться местом в «Гомеровском каталоге», так что её утрата влияния вряд ли могла быть воспринята спокойно.
Более того, помимо указанных обстоятельств, уже самих по себе достаточных для возникновения конфликта, нам сообщают, что киррейцы злоупотребляли своим положением хозяев морского пути к храму, взимая непомерные поборы с посетителей, высаживавшихся там, – число которых постоянно росло из-за умножения заморских колоний и процветания поселений в Италии и Сицилии. Помимо этого оскорбления общегреческой публики, они нажили себе врагов среди фокидских соседей из-за насилия над женщинами – как фокидянками, так и аргивянками, возвращавшимися из храма [116].
Вот как обстояли дела, по-видимому, около 595 г. до н. э., когда Амфиктиония вмешалась – либо по наущению [стр. 62] фокейцев, либо, возможно, по собственному побуждению, из уважения к храму – чтобы наказать киррейцев. После десятилетней войны, первой Священной войны в Греции, эта цель была полностью достигнута объединенными силами фессалийцев под предводительством Еврилоха, сикионцев во главе с Клисфеном и афинян под командованием Алкмеона; причем афинянин Солон был тем, кто выдвинул и настоял на предложении о вмешательстве в Амфиктионийском совете. Кирра, судя по всему, оказывала упорное сопротивление, пока её морские поставки не были перерезаны флотом сикионца Клисфена; и даже после взятия города его жители некоторое время оборонялись на высотах Кирфиса. [117] В конце концов, однако, они были полностью покорены. Их город был разрушен или оставлен лишь как место высадки; а вся прилегающая равнина была посвящена дельфийскому богу, чьи владения теперь простирались до моря. По этому приговору, вынесенному религиозным чувством Греции и освященному торжественной клятвой, публично произнесенной и записанной в Дельфах, земля была обречена оставаться невозделанной и незасаженной, без какого-либо человеческого ухода, служа лишь пастбищем для скота. Последнее обстоятельство было удобно для храма, так как обеспечивало обилие жертв для паломников, высаживавшихся и приходивших для жертвоприношений, – ведь без предварительной жертвы никто не мог обратиться к оракулу; [118] тогда как полный запрет на земледелие был единственным способом предотвратить появление нового беспокойного соседа на побережье. Судьба Кирры в этой войне известна; судьба Криссы менее ясна, и мы не знаем, была ли она разрушена или оставлена в подчиненном положении по отношению к Дельфам. Однако с этого времени дельфийская община выступает как самостоятельная и автономная, самостоятельно управляя храмом; хотя мы увидим, что не раз фокейцы оспаривали это право и предъявляли [стр. 63] претензии на управление им, [119] – пережиток того раннего периода, когда оракул находился на земле фокейской Криссы. Кроме того, между дельфийцами и фокейцами, по-видимому, существовала постоянная вражда.
Упомянутая Священная война, исходившая из торжественного постановления Амфиктионии, ведшаяся совместно войсками различных государств, которые, насколько известно, никогда прежде не сотрудничали, и направленная исключительно на достижение общей цели, сама по себе является фактом огромной важности, свидетельствующим о явном росте общегреческого чувства. Спарта не упоминается среди участников – обстоятельство, которое кажется удивительным, если учесть как её мощь, даже в то время, так и её тесную связь с дельфийским оракулом, – тогда как афиняне выступают как главные инициаторы через своих величайших и достойнейших граждан: слава широкой патриотической мысли принадлежит им в первую очередь.
Но если сама эта Священная война является доказательством усиления общегреческого духа, то её положительный итог ещё более укрепил этот дух. Добыча, взятая в Кирре, была использована победившими союзниками для учреждения Пифийских игр. До этого проводившийся в Дельфах восьмилетний праздник в честь бога, включавший лишь состязания в игре на кифаре и пении пеана, был расширен до всеобъемлющих игр по образцу Олимпийских, с соревнованиями не только в музыке, но и в гимнастике и гонках колесниц, – проводившихся не в самих Дельфах, а на приморской равнине близ разрушенной Кирры, – и под непосредственным надзором самих Амфиктионов. Я уже упоминал, что Солон установил значительные награды для афинян, побеждавших на Олимпийских и Истмийских играх, тем самым показывая, как высоко он ценил общегреческие игры как средство укрепления связей между эллинами. То же самое чувство побудило учредить новые игры на Киррейской равнине в честь восстановленной чести Аполлона и на земле, недавно переданной ему. Они проводились во второй половине лета или первой половине каждого третьего Олимпийского года, – причем Амфиктионы были номинальными агонофетами, или распорядителями, и назначали лиц для исполнения [стр. 64] обязанностей от их имени. [120] На первых Пифийских играх (в 586 г. до н. э.) победителям вручались ценные награды; на вторых (582 г. до н. э.) вручались лишь лавровые венки – стремительно возросшая слава игр сделала дальнейшие награды излишними. Сикионский тиран Клисфен, один из предводителей в завоевании Кирры, сам одержал победу в гонке колесниц на вторых Пифийских играх. Мы встречаем упоминания о других великих деятелях Греции как участниках состязаний, и игры долгое время сохраняли достоинство, уступавшее лишь Олимпийским, а в некоторых отношениях даже превосходившее их: во-первых, они не использовались для разжигания мелкой вражды и соперничества со стороны управляющего государства, как Олимпийские игры не раз извращались элейцами; во-вторых, они включали музыку и поэзию наряду с физическими состязаниями. Благодаря обстоятельствам своего основания Пифийские игры заслужили – даже больше, чем Олимпийские – титул, данный им Демосфеном: «Общий Агон эллинов». [121]
[стр. 65] Олимпийские и Пифийские игры всегда оставались самыми почитаемыми торжествами в Греции, однако Немейские и Истмийские игры приобрели славу, немногим уступающую им, при этом олимпийская награда считалась высшей из всех. [122]
И Немейские, и Истмийские игры отличались от двух других тем, что проводились не раз в четыре года, а раз в два года: первые – во второй и четвертый годы каждой Олимпиады, вторые – в первый и третий. Оба праздника, согласно греческому обычаю, связывались в своем происхождении с выдающимися личностями и событиями греческой древности, но наши исторические сведения о них начинаются лишь с VI века до н. э. Первые исторические Немейские игры относятся к 52-й или 53-й Олимпиаде (572–568 гг. до н. э.), спустя несколько лет после упомянутой Священной войны и возникновения Пифийских игр. Праздник проводился в честь Немейского Зевса в долине Немеи, между Флиунтом и Клеонами, и первоначально организовывался самими клеонейцами, пока после 460 г. до н. э. аргосцы не лишили их этой чести и не взяли управление на себя. [123]
Как и Олимпийские, Немейские игры имели своих элланодиков, [124] которые наблюдали за порядком и распределяли награды. Что касается Истмийских игр, первые исторические сведения о них относятся к несколько более раннему времени, поскольку уже упоминалось, [стр. 66] что Солон установил награду для каждого афинского гражданина, победившего на этих играх, как и на Олимпийских, – в 594 г. до н. э. или позже. Их проводили коринфяне на своем перешейке в честь Посейдона, и если судить по легендам об их основании, которое иногда приписывается Тесею, афиняне, по-видимому, связывали их с древностями своего собственного государства. [125]
[стр. 67] Таким образом, мы видим, что период между 600 и 560 гг. до н. э. знаменуется первым историческим проявлением Пифийских, Истмийских и Немейских игр – превращением всех трех из местных в общегреческие праздники. К Олимпийским играм, долгое время бывшим единственным великим центром единения для всех разрозненных греков, теперь добавились три других священных агона, столь же публичных, открытых и общегреческих. Они служили видимыми символами, а также объединяющими узами эллинского мира и гарантировали каждому греку, отправлявшемуся на состязания, безопасный и нерушимый проход даже через враждебные эллинские государства. [126]
Эти четыре праздника, все проходившие в Пелопоннесе или рядом с ним, причем один из них – каждый год, образовывали цикл священных игр, и те, кто побеждал во всех четырех, удостаивались завидного звания периодоника. [127] Уже в VI веке до н. э. почести, оказываемые олимпийским победителям по возвращении в родной город, были чрезвычайными, а впоследствии стали еще более пышными. Можно отметить, что лишь в Олимпийских играх, старейших и самых прославленных из четырех, отсутствовал музыкально-интеллектуальный элемент: все три более поздних агона включали венки за музыкальные и поэтические состязания наряду с гимнастикой, колесницами и скачками.
Усиление общеэллинского самосознания в этот ранний период нашей истории проявлялось не только в особом национальном характере этих четырех великих праздников. В соответствии с теми же тенденциями религиозные праздники во всех значительных городах постепенно становились все более открытыми и доступными, привлекая гостей и [стр. 68] участников из-за границы, причем престиж государства и почести, воздаваемые богу-покровителю, измерялись числом посетителей, их восхищением и завистью. [128]
Прямых свидетельств такого расширения в отношении афинских праздников ранее правления Писистрата нет: именно он впервые добавил Великие Панафинеи, проводившиеся раз в четыре года, к древним Малым Панафинеям, отмечавшимся ежегодно. Мы также не можем проследить этапы развития праздников в Фивах, Орхомене, Феспиях, Мегаре, Сикионе, Пеллене, Эгине, Аргосе и других городах, но есть все основания полагать, что подобная тенденция была общей. Среди олимпийских и истмийских победителей, воспетых Пиндаром и Симонидом, многие стяжали часть своей славы благодаря предыдущим победам на местных состязаниях, [129] – иногда столь многочисленным, что это свидетельствует о широком распространении взаимного посещения праздников. [130] Хотя даже в III веке до н. э. встречаются договоры между городами, где это право специально оговаривается.
Выдающихся гимнастических и музыкальных участников привлекали ценные призы, а Тимей даже утверждал, будто чрезмерная гордость Кротона и Сибариса проявилась в том, что эти города попытались затмить превосходство Олимпийских игр, учредив собственные состязания с самыми богатыми наградами, проводившиеся в то же время. [131] Это утверждение само по себе недостоверно, но иллюстрирует острое соперничество, существовавшее между греческими городами в стремлении сделать свои игры более пышными и многолюдными.
Во времена создания гомеровского гимна Деметре ее культ, по-видимому, был сугубо локальным в Элевсине, но уже перед Персидской войной ежегодный праздник, проводимый афинянами в честь элевсинской Деметры, допускал к посвящению греков из всех городов и привлекал огромные толпы паломников. [132]
Таким образом, простота и строго локальный характер первоначальных религиозных празднеств в крупнейших государствах Греции постепенно расширялась, превращаясь в определённые периодически повторяющиеся великие события в тщательно продуманную и регламентированную серию представлений – не просто допускавших, но и приглашавших братское присутствие всех эллинских зрителей. В этом отношении Спарта, кажется, составляла исключение среди остальных государств: её праздники были только для неё самой, и её обычная грубость по отношению к другим грекам не смягчалась даже во время Карнеий [133], Гиакинфий или Гимнопедий. С другой стороны, Аттические Дионисии постепенно возвысились от первоначального грубого, спонтанного проявления деревенского [стр. 70] чувства благодарности богу, сопровождавшегося песнями, танцами и разного рода весельем, – до дорогостоящих и разнообразных представлений, сначала с обученным хором, затем с добавлением актёров [134]; и драматические произведения, созданные таким образом, воплощая в себе совершенство греческого искусства, были особенно призваны привлекать общеэллинскую аудиторию и укреплять чувство эллинского единства.
Однако драматическая литература Афин относится к более позднему периоду; до 560 года до н. э. мы видим лишь те начальные нововведения, которые навлекли на Феспида [135] упрёк Солона, сам же Солон способствовал приданию Панафинейскому празднику более торжественного и привлекательного характера, ограничив произвол рапсодов и обеспечив полное и упорядоченное исполнение «Илиады» перед собравшимися.
Священные игры и празднества, упомянутые здесь как особая категория, захватывали греческий ум таким разнообразием чувств [136], что в значительной степени уравновешивали политическую разобщённость и поддерживали среди разбросанных городов, несмотря на постоянную ревность и частые распри, ощущение братства и родства душ, которое в ином случае угасло бы. Теоры, или священные послы, прибывавшие в Олимпию и Дельфы из множества разных мест, приносили жертвы одному и тому же богу у одного и того же алтаря, наблюдали одни и те же состязания и своими дарами способствовали украшению и обогащению общего почитаемого места. Не следует забывать и того, что празднество давало возможность проведения своего рода [стр. 71] ярмарки, включавшей оживлённую торговлю среди огромного числа зрителей [137]; помимо самих игр, в просторном зале совета для желающих проводились чтения и лекции поэтов, рапсодов, философов и историков – среди последних, говорят, Геродот публично читал свою «Историю» [138].
Среди богатых и знатных людей из разных городов многие состязались исключительно за победы в гонках колесниц и скачках. Но были и другие, чьи амбиции носили более личный характер, – они выступали обнажёнными в беге, борьбе, кулачном бою или панкратионе, пройдя перед этим изнурительную подготовку. Килон, чья неудачная попытка захватить власть в Афинах уже упоминалась, одержал победу в олимпийском стадиодроме; Александр, сын Аминты, македонский правитель, также участвовал в беге [139]. Великое семейство Диагоридов на Родосе, [стр. 72] давшее своему городу магистратов и полководцев, выставило ещё большее число победителей в кулачном бою и панкратионе в Олимпии; известны и другие случаи, когда города назначали военачальниками победителей Олимпийских игр в гимнастических состязаниях. Одеты Пиндара, всегда дорого ценившиеся, свидетельствуют о том, сколь многие знатные и богатые люди фигурировали в этих списках [140].











