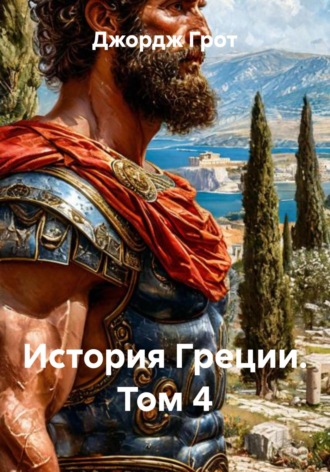
Полная версия
История Греции. Том 4
Около 510 года до н. э. [80] некоторые из этих ферцев привели спартанского царевича Дориея, чтобы основать колонию в плодородной области Кинипса, принадлежавшей ливийским макам. Но Карфаген, заинтересованный в предотвращении расширения греческих поселений на запад, помог ливийцам изгнать его.
Ливийцы, жившие в непосредственной близости от Кирены, сильно изменились после основания этого города и составили значительную часть – первоначально, вероятно, подавляющее большинство – его населения. Не обладая той фанатичной приверженностью традициям, которую ислам привил современным арабам, они оказались восприимчивы к сочетанию принуждения и соблазна, исходившего от греческих поселенцев, так что уже ко времени Геродота кабалии и асбисты [40] внутренних районов переняли киренские вкусы и обычаи. [81]
Ферайские колонисты, получившие не только согласие, но и содействие местных жителей при основании Кирены, заняли положение, подобное привилегированным спартанским гражданам, окружённым ливийскими периэками. [82] По-видимому, они брали в жёны ливиянок, отчего, как отмечает Геродот, даже в его время женщины Кирены и Барки соблюдали местные, а не эллинские религиозные обряды. [83] Даже потомки самого Батта, первого ойкиста, были полуливийцами. Геродот сообщает любопытный факт: слово «Батт» на ливийском означало «царь», из чего он справедливо заключает, что это имя изначально не было личным именем ойкиста, а было принято в Ливии сначала как титул, [84] – и лишь затем перешло к его потомкам как собственное имя. В течение восьми поколений правящие князья носили имена Батт и Аркесилай, чередуя ливийское и греческое, пока их род не лишился власти. Кроме того, мы встречаем правителя Барки, родственника Аркесилая Киренского, по имени Алазир – имя явно не греческое и, вероятно, ливийское. [85]
Таким образом, первые ферайские колонисты обосновались в своей укреплённой цитадели – Кирене, окружённые ливийскими периэками, до того не знавшими ни стен, ни искусств, ни, возможно, даже возделанных земель. Вероятно, эти периэки в той или иной степени оставались подчинёнными и платили дань, хотя ещё полвека сохраняли собственного царя.
Этим невежественным людям ферайцы привили начала эллинизма и цивилизации, но и сами восприняли много неэллинского. Возможно, ливийское влияние перевесило бы греческое, если бы не новые переселенцы из Эллады. После сорока лет правления Батта-ойкиста (ок. 630–590 гг. до н. э.) и шестнадцати лет его сына Аркесилая (ок. 590–574 гг. до н. э.) власть перешла ко второму Батту, [86] прозванному Баттом Счастливым – в знак необычайного расцвета Кирены при нём. Киренцы при нём активно привлекали новых поселенцев со всей Греции без разбора – что было необычно для греческой колонизации, обычно отдававшей предпочтение определённым племенам или даже исключавшей прочих. Каждому новоприбывшему обещался земельный надел, а дельфийская жрица горячо поддержала стремления киренцев, провозгласив: «Кто опоздает к разделу земли – горько пожалеет!» Это обещание новых земель, как и одобрение оракула, несомненно, оглашалось на играх и собраниях греков, и множество колонистов отправилось в Кирены. Точное число не указано, но оно должно было быть огромным, если в следующем поколении киренские греки потеряли в боях с восставшими ливийцами не менее семи тысяч гоплитов – и всё же город и соседняя Барка остались сильны. Потеря семи тысяч гоплитов – случай, почти не имеющий аналогов во всей греческой истории.
Фактически, эта вторая волна переселения при Батте Счастливом (между 574–554 гг. до н. э.) стала моментом подлинного и эффективного заселения Кирены. Вероятно, тогда же был занят и укреплён порт Аполлония, впоследствии сравнявшийся по значению с самим городом, – ведь новые переселенцы прибыли морем, тогда как первые колонисты достигли Кирены сушей через Ирасу с острова Платеи. Новые колонисты были выходцами из Пелопоннеса, Крита и других островов Эгейского моря.
Чтобы обеспечить такое количество новых земельных участков, необходимо было – или же это сочли целесообразным – лишить владений многих ливийских периэков, чье положение и в других отношениях также значительно [стр. 42] ухудшилось. Ливийский царь Адикран, сам пострадавший, обратился за помощью к Априю, царю Египта, находившемуся тогда на пике своего могущества, объявив себя и свой народ египетскими подданными, подобно их соседям адримахидам. Египетский правитель, приняв предложение, отправил большое войско из представителей воинской касты, постоянно размещённых на западной границе в городе Марея, чтобы атаковать Кирены вдоль побережья. Греки из Кирены встретили их у Ирасы, и египтяне, совершенно незнакомые с греческим вооружением и тактикой, потерпели столь сокрушительное поражение, что лишь немногие вернулись домой. [87] Последствия этого разгрома в Египте, где он привёл к переходу власти от Априя к Амасису, были рассмотрены в предыдущей главе.
Разумеется, ливийские периэки были подавлены, а перераспределение земель близ Кирены среди греческих поселенцев завершилось, что значительно усилило город. Правление Батта Процветающего ознаменовало период расцвета Кирены и расширения её территориальных владений, предшествовавший годам раздоров и бедствий. Киренцы заключили тесный союз с Амасисом, царём Египта, который всячески поощрял связи с греками и даже взял в жёны Ладику, женщину из рода Баттиадов в Кирене, так что ливийские периэки лишились всякой надежды на египетскую помощь против греков. [88]
Однако новые перспективы открылись для них во время правления Аркесилая II, сына Батта Процветающего (ок. 554–544 гг. до н. э.). [89] Поведение этого правителя вызвало гнев и отчуждение среди его братьев, которые подняли восстание, отделились с частью граждан и склонили многих ливийских периэков присоединиться к ним. Они основали греко-ливийский город Барку на территории ливийских авсхисов, примерно в двенадцати милях от побережья, на расстоянии около семидесяти миль к западу от Кирены по морю. Пространство между ними и даже за Баркой, вплоть до более западной греческой колонии Гесперид, во времена Скилака было оборудовано удобными гаванями для укрытия или высадки. [89] Когда именно [стр. 43] была основана Гесперида, неизвестно, но она существовала уже около 510 г. до н. э. [90] Неясно, пытался ли Аркесилай помешать основанию Барки, но он повёл киренское войско против восставших ливийцев, присоединившихся к ней. Не сумев сопротивляться, те бежали к своим восточным соплеменникам близ египетской границы, и Аркесилай преследовал их. Наконец, в области под названием Левкон беглецы получили возможность атаковать его с таким огромным преимуществом, что почти уничтожили киренское войско – семь тысяч гоплитов (как упоминалось ранее) остались лежать на поле боя. Аркесилай ненадолго пережил это поражение. Во время болезни его задушил брат Леарх, стремившийся занять трон, но Эриксо, вдова погибшего правителя, [91] отомстила, организовав убийство Леарха.
Нетрудно поверить, что авторитет царей из рода Баттиадов пошатнулся после такой череды бедствий и злодеяний. Но ещё больший удар нанесло то, что Батт III, сын и преемник Аркесилая, был хромым и имел увечья на ногах. Для киренян подчинение человеку с физическими недостатками было невыносимым унижением, а также поводом для уже существовавшего недовольства, и они решили обратиться за советом к Дельфийскому оракулу. Жрица велела им пригласить из Мантинеи посредника, уполномоченного завершать споры и предложить форму правления. Мантинейцы выбрали Демонакта, одного из мудрейших своих граждан, чтобы решить задачу, подобную той, что была поручена Солону в Афинах. По его решению царская власть Баттиадов была упразднена, и около 543 г. до н. э. установилось республиканское правление, при этом свергнутый правитель сохранил [стр. 44] земельные владения [92] и жреческие функции, принадлежавшие его предшественникам.
К сожалению, Геродот почти не сообщает подробностей о новом государственном устройстве. Демонакт разделил население Кирены на три филы: 1. Ферейцев с их ливийскими периэками; 2. Греков, прибывших из Пелопоннеса и Крита; 3. Греков с остальных островов Эгейского моря. Также, судя по всему, был создан совет, вероятно, формировавшийся из представителей всех трёх фил в равной пропорции. Вероятно, до этого не существовало конституционного деления или политических прав, кроме тех, что принадлежали ферейцам – потомкам первых колонистов, единственным, кто признавался государством. Остальные греки, хотя и были свободными землевладельцами и гоплитами, не имели полноценного участия в политической жизни и не распределялись по филам. [93] Вся власть, [стр. 45] ранее принадлежавшая Баттиадам, пусть и с неясной степенью контроля со стороны граждан ферейского происхождения, теперь перешла от царя к народу – то есть к определённым лицам или собраниям, избираемым каким-то образом из всех граждан. В Кирене, как и в Фере и Спарте, существовала коллегия эфоров и отряд из трёхсот вооружённых полицейских, [94] аналогичных спартанским «всадникам» (гиппеям). Неизвестно, были ли они учреждены Демонактом, и тождество названий должностей в разных государствах не означает тождества их полномочий. Это особенно важно в отношении киренских периэков, которые, возможно, были ближе к илотам, чем к спартанским периэкам. Тот факт, что в новой конституции периэки относились именно к ферейской филе, указывает, что последние сохранили привилегированный статус, подобно римским патрициям с их клиентами в отношении плебеев.
Есть все основания полагать, что переустройство, введённое Демонаксом, было мудрым, соответствовало общему духу греческого общества и должно было принести хорошие плоды. Никакое внутреннее недовольство не смогло бы его разрушить без помощи внешней силы. Батт Хромой при жизни спокойно с ним смирился, но после его смерти его вдова и сын, Феретима и Аркесилай, подняли восстание, пытаясь силой вернуть царские привилегии семьи. Они потерпели поражение и были вынуждены бежать – мать на Кипр, сын на Самос, – где оба занялись сбором иностранных войск для вторжения и завоевания Кирены.
Хотя Феретима не смогла получить действенной помощи от Эвельтона, правителя Саламина на Кипре, её сын оказался удачливее на Самосе, приглашая новых греческих поселенцев в Кирены с обещанием передела земли. Большое [стр. 46] количество переселенцев присоединилось к нему на этом условии; время, по-видимому, было благоприятным, поскольку ионийские города незадолго до этого подпали под власть Персии и были недовольны ярмом. Но прежде чем повести этот многочисленный отряд против родного города, он счёл нужным испросить совета у Дельфийского оракула.
Успех в предприятии был ему обещан, но после победы ему настоятельно предписывалась умеренность и милосердие – под угрозой смерти; также было объявлено, что род Баттиадов суждено править в Кирене восемь поколений, но не более – в лице четырёх правителей по имени Батт и четырёх по имени Аркесилай. [95] «Более восьми поколений (сказала Пифия) Аполлон запрещает Баттиадам даже помышлять».
Это пророчество, несомненно, было передано Геродоту киренскими информаторами, когда он посетил их город после окончательного свержения Баттиадов, произошедшего при четвёртом Аркесилае между 460–450 гг. до н. э.; вторжение Аркесилая Третьего, шестого правителя из рода Баттиадов, к которому относилось пророчество, произошло около 530 г. до н. э. Слова, вложенные в уста жрицы, несомненно, относятся к более позднему из этих двух периодов и служат примером того, как мнимые пророчества не только создаются задним числом, но и подстраиваются под текущие нужды. Ибо явный запрет бога «даже не стремиться к правлению дольше восьми поколений Баттиадов» явно был призван удержать сторонников свергнутой династии от попыток её восстановления.
Аркесилай Третий, к которому, якобы, было обращено это пророчество, вернулся с матерью Феретимой и войском новых колонистов в Кирены. Он был достаточно силён, чтобы сокрушить всех противников: изгнать одних и схватить других, отправив их на Кипр для казни, хотя корабли были отнесены бурей к полуострову Книд, где жители спасли пленников и отправили их на Феру. Другие киренцы, враждебные Баттиадам, укрылись в высокой частной башне, принадлежавшей [стр. 47] Агломаху, где Аркесилай приказал сжечь их всех, обложив строение хворостом и подпалив его.
Но после этого триумфа и мести он осознал, что нарушил завет умеренности, данный ему оракулом, и, стремясь избежать угрозы возмездия, покинул Кирены. Во всяком случае, он отправился в Барку, к своему родственнику Алазиру, князю баркейцев, на дочери которого был женат. Однако там он встретил некоторых из беглецов, спасавшихся от него в Киренах: эти изгнанники, поддержанные несколькими баркейцами, подстерегли подходящий момент и убили его на рыночной площади вместе с князем Алазиром. [96]
Победа Аркесилая в Киренах и его убийство в Барке – несомненно, реальные события, но, похоже, они были сжаты и искажены, чтобы придать смерти киренского правителя видимость божественного возмездия. Ибо его правление не могло быть очень кратким, поскольку в этот период произошли важнейшие события. Персы под предводительством Камбиса завоевали Египет, и как киренский, так и баркейский правители отправили послов в Мемфис, чтобы выразить покорность завоевателю – предложив дары и обязавшись платить ежегодную дань. Однако подношение киренцев – пятьсот мин серебра – Камбис счёл ничтожным и тут же раздал солдатам. А к моменту смерти Аркесилая в Египте уже утвердился Арианд, персидский сатрап, сменивший Камбиса. [97]
Во время отсутствия Аркесилая в Барке его мать Феретима правила как регент, участвуя в заседаниях совета; но после его гибели, когда в Барке усилились антибаттиадские настроения, она не смогла подавить их и отправилась в Египет просить помощи у Арианда. Сатрап, убеждённый, что Аркесилай погиб из-за преданности персам, послал в Барку глашатая с требованием выдать убийц. Баркейцы взяли на себя коллективную ответственность, заявив, что он причинил им множество тяжких обид – что служит ещё одним доказательством, что его правление не было кратким. [стр. 48]
Получив этот ответ, сатрап немедленно отправил мощное персидское войско – и сухопутное, и морское – для исполнения замыслов Феретимы против Барки. Они осаждали город девять месяцев, пытаясь штурмовать, пробивать и подкапывать стены; [98] но их усилия были тщетны, и город был взят лишь благодаря вопиющему вероломству. Притворно отчаявшись, персидский полководец заключил с баркейцами договор, по которому те обязались платить дань Великому царю, а армия отступала без дальнейших враждебных действий: «Клянусь (сказал перс), и клятва моя будет нерушима, пока стоит эта земля». Но место, где приносились клятвы, было заранее подготовлено для обмана: вырытый ров прикрыли хворостом, сверху засыпав землёй. Баркейцы, доверившись клятве и обрадованные избавлению, тут же открыли ворота и ослабили охрану, а персы, разрушив подкоп и обрушив верхний слой земли (чтобы соблюсти букву клятвы), без труда захватили город.
Жалкая участь ожидала пленников, попавших в руки Феретимы. Она распяла главных противников себя и своего покойного сына вдоль стен, к которым также прикрепили отрезанные груди их жен. Затем, за исключением тех жителей, которые принадлежали к роду Баттиадов и не были причастны к убийству Аркесилая, остальных она отправила в рабство в Персию. Их увели в плен в Персидскую державу, где Дарий выделил им для поселения деревню в Бактрии, которая даже во времена Геродота сохраняла название Барки.
В ходе этой экспедиции персидская армия, по-видимому, дошла до Гесперид и подчинила многие ливийские племена. Они, наряду с Киренаикой и [стр. 49] Баркой, числятся среди данников и союзников Ксеркса во время его похода на Грецию. А когда армия возвращалась в Египет по приказу Арианда, воины были не прочь захватить саму Кирены по пути, но возможность была упущена, и замысел остался неосуществленным. [99]
Феретима отправилась с отступающей армией в Египет, где вскоре умерла от отвратительной болезни, изъеденная червями. Это, как говорит Геродот, [100] свидетельствует о том, что «чрезмерная жестокость в отмщении навлекает на людей гнев богов». Стоит вспомнить, что в жилах этой свирепой женщины ливийская кровь смешалась с греческой. Политическая вражда в собственно Греции убивает, но редко, если вообще когда-либо, калечит или проливает кровь женщин.
Таким образом, мы оставляем Кирену и Барку снова под властью царей из рода Баттиадов, хотя они и остаются данниками Персии. Еще один Батт и еще один Аркесилай должны будут смениться, прежде чем чаша этой никчемной династии иссякнет между 460–450 гг. до н. э. Я не стану сейчас отвлекать внимание читателя на этого последнего Аркесилая, который удостоился чести за две победы на колесницах в Греции и двух прекрасных од Пиндара.
Победа третьего Аркесилая и восстановление власти Баттиадов разрушили справедливый государственный строй, установленный Демонаксом. Его тройное деление на филы, должно быть, было полностью пересмотрено, хотя мы не знаем, как именно. Ведь новое число колонистов, приведенных Аркесилаем, потребовало перераспределения земель, и крайне сомнительно, сохранились ли после этого отношения между гражданами ферейского класса и периэками, установленные Демонаксом. Надо отметить этот факт, потому что некоторые авторы описывают установления Демонакса так, будто они стали постоянной конституцией Кирены. Однако они не могли пережить восстановление власти Баттиадов и даже не были возрождены после окончательного изгнания этой династии, поскольку большое число новых граждан и значительные изменения в распределении собственности, внедренные Аркесилаем Третьим, сделали их неприменимыми к последующему государству. [стр. 50]
Глава XXVIII.
ПАНЭЛЛИНСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА – ОЛИМПИЙСКИЕ, ПИФИЙСКИЕ, НЕМЕЙСКИЕ И ИСТМИЙСКИЕ.
В предыдущих главах я был вынужден представить читателю картину, лишённую цельности и центрального эффекта, – перечислить вкратце каждый из двух или трёхсот городов, носивших эллинское имя, и изложить их рождение и раннюю историю, насколько позволяют свидетельства, – но без возможности указать на какие-либо общие для всех действия и противодействия, подвиги или страдания, процветание или несчастья, славу или позор. В значительной степени это неизбежная черта истории Греции от начала до конца, ибо единственное политическое единство, которое она когда-либо обретает, – это печальное единство подчинения всепобеждающему Риму. Ничто, кроме силы, не сотрёт в сознании свободного грека представление о его городе как об автономной и отдельной организации; деревня – это часть, но город – это единица, и притом высшая из всех политических единиц, не допускающая объединения с другими в десятки или сотни за счёт утраты своей индивидуальности. Таков характер этого народа, как на их исконной земле, так и в колониальных поселениях, – как в ранней, так и в поздней истории, – естественным образом дробящегося на множество самоуправляющихся, неделимых городов. Но что особенно отличает ранний исторический период до Писистрата и придаёт ему столь утомительную и непреодолимую разрозненность, так это то, что пока ещё не возникло причин, способных противодействовать этой политической изоляции. Каждый город, будь он прогрессивным или застойным, благоразумным или авантюрным, буйным или спокойным, следует собственной нити существования, не имея общих целей с остальными и ещё не будучи принуждён к активному взаимодействию с ними внешними силами. Точно так же и окружающие эллинский мир народы кажутся обособленными и не связанными между собой, ещё не втянутыми в какую-либо объединяющую систему.
[стр. 51] С приходом к власти Писистрата это положение дел меняется как внутри Эллады, так и за её пределами, причём первое является следствием второго: ибо в это время начинается формирование великой Персидской империи, которая поглощает в себя не только Верхнюю Азию и Малую Азию, но также Финикию, Египет, Фракию, Македонию и значительное число самих греческих городов; и общая опасность, угрожавшая крупным государствам собственно Греции со стороны этого обширного образования, заставляет их, несмотря на сильное нежелание и взаимную ревность, вступить в активный союз. Отсюда возникает новый импульс, противодействующий естественной тенденции к политической изоляции эллинских городов и в известной степени централизующий их действия в течение двух столетий после 560 г. до н. э.; и Афины, и Спарта воспользовались централизующими тенденциями, выросшими из Персидской войны. Но в период между 776 и 560 гг. до н. э. нельзя обнаружить даже зачатков такой тенденции, ни каких-либо сдерживающих сил, способных её породить. Даже Фукидид, как видно из его превосходного введения, не знал за эти два века ничего, кроме отдельных городских политик и occasionalных войн между соседями: единственным событием, по его словам, в котором участвовало значительное число греческих городов, была война между Халкидой и Эретрией, дата которой нам неизвестна. В этой войне несколько городов выступили в качестве союзников; Самос, среди прочих, на стороне Эретрии, – Милет на стороне Халкиды: [101] насколько широкими были эти союзы, у нас нет свидетельств, но вероятно, что в них не входило большое число греческих городов. Как бы то ни было, эта война между Халкидой и Эретрией была, по словам Фукидида, ближайшим, и единственным, приближением к общеэллинскому действию между Троянской и Персидской войнами. И он, и Геродот упоминают этот ранний период лишь как введение и контраст к последующему, – когда панэллинский дух и тенденции, хотя никогда не становились преобладающими, всё же стали мощным элементом истории и заметно смягчили всеобщий инстинкт городской изоляции. Они мало рассказывают об этом периоде, либо потому что не могли найти достоверных [стр. 52] источников, либо потому что в нём не было ничего, что могло бы захватить воображение так же, как Персидские или Пелопоннесские войны. Чем бы ни объяснялось их молчание, оно глубоко прискорбно, ибо явления этих двух столетий (776–560 гг. до н. э.), хотя и не поддающиеся централизованному изложению, должны были представлять собой крайне поучительный материал для изучения, сохранись они. Ни в один период истории не было создано столь большого числа новых политических общностей при таком разнообразии обстоятельств, как личных, так и территориальных. И даже несколько хроник, пусть лишённых философской глубины, точно описывающих развитие некоторых из этих колоний с самого начала – со всеми трудностями, связанными с ассимиляцией чуждых туземцев и новым распределением земли, – значительно обогатили бы наши знания как о греческом характере, так и о греческом социальном укладе.
Взяв два рассматриваемых столетия, можно заметить, что среди греческих государств не только не наблюдается усиления политического единства, но даже проявляется противоположная тенденция – к разобщению и взаимному отчуждению. Однако этого нельзя сказать о других формах единства, возможных между людьми, не признающими общей политической власти, – симпатиях, основанных на общей религии, языке, вере в общее происхождение, легендах, вкусах и обычаях, интеллектуальных устремлениях, чувстве гармонии и художественного совершенства, развлечениях и т. д. Во всех этих аспектах проявления эллинского единства становятся всё более выраженными и всеобъемлющими, несмотря на усиление политической раздробленности, на протяжении того же периода. Широта общих чувств и взаимопонимания между греками, а также представление о многочисленных периодических собраниях как о неотъемлемой части существования, к 560 г. до н. э. явно усилились по сравнению с предыдущим столетием. Этому способствовало укрепление убеждения в превосходстве греков над иностранцами – убеждения, постепенно находившего всё больше оправданий по мере развития греческого искусства и интеллекта и расширения знаний о других странах, – а также множество новых достижений гениев в области музыки, поэзии, скульптуры и архитектуры, каждый из которых затрагивал струны души, общие для всех греков, а не только для его родного города. В то же время [p. 53] жизнь каждого отдельного города сохраняет свою уникальность и даже обогащается новыми событиями и внутренними интересами. Таким образом, в течение двух рассматриваемых столетий в сознании каждого грека усиливалось как чувство принадлежности к своему городу, так и общеэллинское чувство, тогда как прежнее ощущение обособленности по расовому признаку – дорийского, ионийского, эолийского – ослабевало.
В своём предыдущем томе я уже касался многогранного характера греческой религии, проникавшей во все радости и страдания, надежды и страхи, привязанности и антипатии народа – не только налагавшей ограничения и обязанности, но и защищавшей, умножавшей и разнообразившей все социальные удовольствия и украшения жизни. В каждом городе и даже каждой деревне были свои особые религиозные праздники, на которых жертвоприношения богам обычно сопровождались публичными увеселениями разного рода – пиршествами с жертвенными животными, процессиями, пением и танцами или состязаниями в силе и ловкости. Первоначально праздник был местным, но дружба или общность происхождения проявлялась в приглашении посторонних, не жителей, разделить его радости. В случае колонии и её метрополии часто практиковалось, что граждане метрополии удостаивались почётного места на праздниках колонии или что одному из них предлагали первую часть жертвенного животного. [102] Взаимное посещение религиозных празднеств было, таким образом, постоянным свидетельством дружбы и братства между городами, не объединёнными политически. Нет сомнений, что в какой-то степени это существовало с самых ранних времён, хотя у Гомера и Гесиода мы находим лишь описание погребальных игр, устраиваемых вождём за свой счёт в честь умершего отца или друга – со всеми сопутствующими развлечениями публичного праздника, причём чужестранцы не только [p. 54] присутствовали, но и соревновались за ценные призы. [103]











