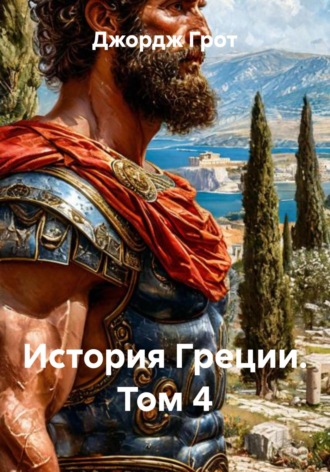
Полная версия
История Греции. Том 4
Греческие колонии, основанные на Термейском заливе, а также на полуострове Халкидике, происходили главным образом из Халкиды и Эретрии. Хотя точное время их основания неизвестно, они, по-видимому, появились рано и, вероятно, предшествовали тому периоду, когда македоняне из Эдессы расширили свои завоевания до моря. В те ранние времена греки застали пиерийцев еще между Пенеем и Галиакмоном, а также множество мелких фракийских племен на обширной части Халкидского полуострова; они нашли Пидну – пиерийским городом, а Терму, Анфем, Халастру и другие – мигдонскими.
Древнейшей греческой колонией в этих краях, кажется, [стр. 23] была Метона, основанная эретрийцами в Пиерии; почти в то же время (если верить сообщению довольно сомнительного характера, хотя сама дата вполне правдоподобна), как Керкира была заселена коринфянами (около 730–720 гг. до н. э.). [39] Она располагалась немного севернее пиерийского города Пидны и была отделена примерно десятью милями от боттиейского города Алор, лежавшего к северу от Галиакмона. [40] О Метоне мы знаем очень мало, кроме того, что она сохраняла свою автономию и эллинский характер до времен Филиппа Македонского, который захватил и разрушил ее. Но хотя, будучи однажды основанной, она была достаточно сильна, чтобы устоять, несмотря на завоевания македонян из Эдессы вокруг нее, можно предположить, что изначально она не могла быть основана на македонской территории. Да и само место не было особенно выгодным для греческих колонистов, поскольку поблизости находились другие приморские города – негреческие: Пидна, Алор, Терма, Халастра; тогда как главное преимущество греческой колонии заключалось в том, чтобы стать единственным портом для внутренних коренных народов.
Колонии, основанные Халкидой и Эретрией на всех трех выступах Халкидского полуострова, были многочисленны, хотя долгое время оставались незначительными. Мы не знаем, насколько эти мысы были заселены до прибытия поселенцев из Эвбеи – события, которое, вероятно, можно отнести к периоду ранее 600 г. до н. э.; после этого времени Халкида и Эретрия, кажется, пришли в упадок. Кроме того, халкидские колонисты во Фракии помогали своей метрополии Халкиде в войне против Эретрии, которая не могла быть намного позже 600 г. до н. э., хотя могла быть и значительно раньше.
Горный хребет, пересекающий от Термейского до Стримонского залива и образующий северную границу Халкидского полуострова, понижается к южной оконечности, оставляя значительную полосу плодородной земли между Торонейским и Термейским заливами, включая плодородный мыс Паллена – самый западный из трех выступов Халкидики, вдающихся в Эгейское море. Из двух других выступов восточный заканчивается величественной горой Афон, поднимающейся из моря как отвесная скала высотой [стр. 24] шесть тысяч четыреста футов, соединенная с материком хребтом не более половины высоты самой горы, но все же высоким, скалистым и лесистым от моря до моря, оставляя лишь небольшие участки, пригодные для заселения или обработки. Промежуточный, или Сифонийский, мыс также холмист и лесист, хотя в меньшей степени – менее привлекательный и менее плодородный, чем Паллена. [41]
Энея, близ мыса, отмечающего вход во внутренний Термейский залив, и Потидея, на узком перешейке Паллены, были основаны Коринфом. Между этими городами лежала плодородная территория Крусида, или Кроссэя, впоследствии ставшая частью владений Олинфа, но в VI веке до н. э. занятая мелкими фракийскими поселениями. [42] В Паллене находились города Менда – колония Эретрии, Скиона, не имевшая признанной метрополии и возводившая свое происхождение к пелленским воинам, возвращавшимся из-под Трои, – Афитис, Неаполь, Эге, Терамб и Сана, [43] полностью или частично основанные эретрийцами. На Сифонийском полуострове располагались Асса, Пилор, Синг, Сарта, Торона, Галепс, Сермила и Мекиберна; большинство из них, по-видимому, имели халкидское происхождение. Но во главе Торонейского залива (между Сифонией и Палленой) находился Олинф, окруженный обширной плодородной равниной. Первоначально боттиейский город, Олинф во время персидского нашествия перешел в руки халкидских греков [44] и постепенно объединил вокруг себя несколько мелких соседних поселений этого народа, благодаря чему халкидяне приобрели заметное преобладание на полуострове, которое сохраняли даже перед лицом усилий Афин вплоть до времен Филиппа Македонского.
[стр. 25] На скудных участках, оставленных горным мысом, заканчивающимся Афоном, были основаны некоторые фракийские и пеласгические поселения, населенные теми же народами, что занимали Лемнос и Имброс; с ними жили немногочисленные халкидские граждане, а население говорило как на пеласгийском, так и на эллинском. Но близ узкого перешейка, соединяющего этот мыс с Фракией, и вдоль северо-западного побережья Стримонского залива располагались греческие города значительной важности – Сана, Аканф, Стагира и Аргил, все колонии Андроса, который сам был колонизирован Эретрией. [45] Основание Аканфа и Стагиры относят к 654 г. до н. э.
Если следовать вдоль южного побережья Фракии от устья Стримона на восток, можно усомниться, существовали ли к 560 г. до н. э. там сколько-нибудь значительные независимые греческие колонии. Ионийская колония Абдера, восточнее устья Неста, основанная теосцами из Ионии, относится к более позднему времени, хотя клазоменцы [46] начали неудачное поселение там еще в 651 г. до н. э. Между тем Дикея – хиосское поселение Маронея – и лесбосское поселение Эн при устье Гебра имеют неизвестную дату основания. [47] Важная и ценная территория близ устья Стримона, где после многих неудачных попыток [48] позже утвердилась афинская колония Амфиполь, в упомянутое время принадлежала эдонским фракийцам и пиерийцам: различные фракийские племена – сатры, эдоны, дерсеи, сапеи, бистоны, киконы, петы и др. – контролировали большую часть земель между Стримоном и Гебром, вплоть до побережья. Однако стоит отметить, что острова Фасос и Самофракия имели так называемую Перайю [49] – полосу материковой земли, возделываемую и защищаемую с помощью укрепленных постов или небольших городов. Вероятно, эти владения очень древние, поскольку они, кажется, были необходимы для поддержания жизни на островах.
Особенно бесплодный Фасос даже сегодня соответствует непривлекательному описанию, данному ему поэтом Архилохом в VII веке до н. э.: «ослиный хребет, покрытый диким лесом». [50] Он почти полностью состоит из гор – голых или лесистых, с редкими участками пахотной земли, почти все из которых расположены у моря. Первоначально остров был занят финикийцами, разрабатывавшими золотые рудники в его горах с таким усердием, что даже их остатки вызывали восхищение Геродота. Как и когда они покинули его, неизвестно, но поэт Архилох [51] был среди паросских колонистов, заселивших его в VII веке до н. э. и ведших не всегда успешные войны против фракийского племени саиев: в одном из сражений Архилох был вынужден бросить свой щит. Благодаря своим рудникам и владениям на материке (где находились еще более богатые месторождения, например, в Скапте-Гиле и других местах, чем на острове), фасосские греки достигли значительного могущества и численности.
И поскольку они, кажется, были единственными греками до основания милетцем Гистиеем поселения на Стримоне около 510 г. до н. э., активно интересовавшимися рудниками Фракии напротив их острова, неудивительно, что их чистый доход до персидского завоевания (около 493 г. до н. э.), после покрытия государственных расходов без какого-либо налогообложения, составлял огромную сумму в двести талантов, иногда даже триста талантов в год (от сорока шести до шестидесяти шести тысяч фунтов).
На длинном полуострове, называемом Фракийским Херсонесом, вероятно, уже в ранний период существовали небольшие греческие поселения, хотя точное время основания как Милетской колонии Кардии на западной стороне перешейка полуострова, близ Эгейского моря, так и Эолийской колонии Сеста на Геллеспонте, нам неизвестно. Афинское влияние на полуострове начинается лишь с переселения первого Мильтиада во время правления Писистрата в Афинах.
Самосская колония Перинф на северном побережье Пропонтиды [52] упоминается как древняя, а Мегарские колонии – Селимбрия и Византий – относятся к VII веку до н. э. Последняя из них датируется 30-й Олимпиадой (657 г. до н. э.), а её сосед Халкедон на противоположном берегу был основан на несколько лет раньше.
Местоположение Византия на узком проливе Босфора, с его обильным промыслом тунца [53], который обеспечивал занятость и пропитание значительной части бедных свободных граждан, было одинаково удобно как для морской торговли, так и для сбора дани с многочисленных хлебных судов, проходивших из Эвксина в Эгейское море. Более того, сообщается, что город держал в подчинённом положении значительное число соседних фракийцев-битинов в качестве платящих дань периэков. Хотя такое господство, вероятно, сохранялось в более энергичный период жизни греческих городов, в более поздние времена оно стало невозможным, и даже защита собственной небольшой территории иногда оказывалась византийцам не по силам. Тем не менее, этот город сохранял значительное влияние на протяжении всей описываемой эпохи. [54]
Греческие поселения на негостеприимном юго-западном побережье Эвксина, к югу от Дуная, по-видимому, так и не [стр. 28] достигли заметного значения: основные торговые маршруты греческих кораблей в этом море вели в более северные порты – на берегах Борисфена и в Таврическом Херсонесе.
Истрия была основана милетянами близ южного устья Дуная, Аполлония и Одесс – на том же побережье, южнее, вероятно, между 600–560 гг. до н. э. Мегарская (или византийская) колония Месамбрия, по-видимому, возникла после Ионийского восстания; время основания Каллатиса неизвестно. Томы, расположенные севернее Каллатиса и южнее Истрии, известны как место ссылки Овидия. [55] Описание этого неприветливого места, почти не знавшего передышки от соседства кровожадных гетов, вполне объясняет, почему эти города не приобрели сколь-либо значительного влияния.
Острова Лемнос и Имброс в Эгейском море в этот ранний период были заселены тирренскими пеласгами, завоёваны персами около 508 г. до н. э. и, по-видимому, перешли под власть афинян во время восстания Ионии против Персии. Если в мифических и поэтических преданиях об этих тирренских пеласгах есть доля истины, они должны были быть пиратами не менее жадными, чем жестокими. В определённый период пеласги, кажется, владели и Самофракией, но как и когда их сменили греки, достоверных сведений нет: ко времени Персидских войн население Самофракии было ионийским. [56] [стр. 29]
Глава XXVII.
КИРЕНА И БАРКА. – ГЕСПЕРИДЫ.
Как уже упоминалось в предыдущей главе, Псамметих, царь Египта, около середины VII века до н. э., впервые отменил запреты, исключавшие греческую торговлю из его страны. В его правление греческие наёмники впервые обосновались в Египте, а греческие торговцы были допущены, с определёнными ограничениями, в Нил. Открытие этого нового рынка побудило их пересечь открытое море, отделяющее Крит от Египта, – опасное плавание для судов, редко решавшихся терять из виду берег, – и, по-видимому, впервые познакомило их с соседним побережьем Ливии между Нилом и заливом, называемым Большим Сиртом. Так было положено начало важной колонии под названием Кирена.
Как и в случае большинства других греческих колоний, ранняя история Кирены, включая её основание, известна весьма фрагментарно. Дата события, насколько её можно установить среди множества противоречивых свидетельств, – около 630 г. до н. э. [57] Материнским городом была Тера, сама являвшаяся колонией Лакедемона; а поселения, основанные в Ливии, стали немаловажным украшением дорийского имени в Элладе.
Согласно рассказу утраченного историка Менекла, [58] политические раздоры среди жителей Теры привели к тому переселению, которое основало Кирену; а более пространные легендарные подробности, собранные Геродотом частично от жителей Теры, частично от киренцев, не противоречат этому утверждению, хотя и указывают скорее на неурожаи, бедствия и перенаселение. Оба источника особо подчёркивают, что Дельфийский оракул был вдохновителем и [p. 30] руководителем первых переселенцев, чьи опасения перед опасным плаванием и неизвестной страной было очень трудно преодолеть. Оба утверждали, что первоначальный ойкист Батт был избран и посвящён этому делу по божественному повелению; оба называли Батта сыном Полимнеста из мифического рода Миниев. Но в других моментах между двумя историями было полное расхождение, а сами киренцы, чей город частично населили переселенцы с Крита, описывали мать Батта как дочь Этарха, правителя критского города Акс. [59]
У Батта был дефект речи, и именно когда он просил у Дельфийского оракула исцеления от этого недуга, он получил указание отправиться «как скотовод-ойкист в Ливию». Страдающим жителям Теры было велено помочь ему, но ни он, ни они не знали, где находится Ливия, и не могли найти на Крите никого, кто бывал там. Таковы были ограниченные возможности греческой навигации к югу от Эгейского моря даже спустя столетие после основания Сиракуз. Наконец, после долгих расспросов они обнаружили человека по имени Коро́бий, занимавшегося ловлей пурпурных моллюсков, который сказал, что однажды был занесён штормом на остров Платею, близ берегов Ливии, со стороны, не слишком удалённой от западной границы Египта. Несколько жителей Теры, отправленные с Коро́бием осмотреть этот остров, оставили его там с запасом провизии и вернулись в Теру, чтобы собрать переселенцев. Из семи округов, на которые делилась Тера, были выбраны колонисты – по одному брату, избранному жребием из разных многочисленных семей. Но их возвращение на Платею так затянулось, что запасы Коро́бия иссякли, и от голодной смерти его спасло лишь случайное прибытие самосского корабля, сбившегося с курса на пути в Египет из-за противных ветров. Коле́й, капитан этого судна (чьи огромные прибыли от первого плавания в Тартесс упоминались в предыдущей главе), снабдил его провизией на год – акт доброты, который, как говорят, заложил основу будущего союза и добрых отношений между Терой, Киренаикой и Самосом. Наконец, долгожданные переселенцы достигли острова, [p. 31] но их плавание было настолько опасным и трудным, что они однажды в отчаянии вернулись в Теру, где их едва не позволили высадиться силой. Отряд, сопровождавший Батта, разместился всего на двух пентеконтерах – военных кораблях с пятьюдесятью гребцами каждый. Так скромно началась великая Кирения, которая во времена Геродота занимала городскую площадь, равную всему острову Платея. [60]
Остров, однако, хотя и близкий к Ливии и считавшийся колонистами частью Ливии, на самом деле таковым не был: повеление оракула не было исполнено буквально. В результате поселение принесло лишь тяготы на протяжении двух лет, и Батт вернулся со своими спутниками в Дельфы, чтобы пожаловаться, что обещанная земля оказалась горьким разочарованием. Бог через свою жрицу ответил: «Если вы, никогда не бывавшие в скотоводческой Ливии, знаете её лучше, чем я, который там был, я восхищаюсь вашей проницательностью». Снова неумолимый приказ заставил их вернуться, и на этот раз они обосновались на самом континенте Ливии, почти напротив острова Платея, в местности под названием Азирис, окружённой с обеих сторон прекрасными лесами и прилегающим к ней ручьём. После шести лет проживания в этом месте их уговорили некоторые из местных ливийцев покинуть его, пообещав привести в лучшее место: и теперь их проводники привели их на настоящее место Кирены, сказав: «Вот, эллины, место, где вам следует поселиться, ибо здесь небо продырявлено». [61] Дорога, по которой они шли, проходила через соблазнительную область Ирасу с её источником Тесте, и проводники позаботились провести их через неё ночью, чтобы они не узнали о её красотах.
Таковы были божественные и человеческие предпосылки, приведшие Батта и его колонистов в Кирена. Во времена Геродота Ираса была окраинной частью восточных владений этого могущественного города. Но в только что приведённом рассказе мы видим [p. 32] мнение, распространённое среди его киренских информаторов, что Ираса с её источником Тесте была более привлекательным местом, чем Кирена с её источником Аполлона, и благоразумие требовало изначально выбрать её; из этого мнения, в соответствии с общей привычкой греческого ума, родился и укрепился анекдот, объясняющий, как была совершена предполагаемая ошибка. Каковы могли быть преимущества Ирасы, нам не дано узнать: но описания современных путешественников, как и последующая история Кирены, в значительной степени оправдывают сделанный выбор. Город располагался примерно в десяти милях от моря, имея защищённую гавань под названием Аполлония, которая сама позже стала значительным городом, – он находился примерно в двадцати милях от мыса Фикус, самой северной точки африканского побережья, почти на одной долготе с пелопоннесским мысом Тенарон (Матапан). Кирена была расположена на высоте около восемнадцатисот футов над уровнем Средиземного моря, с прекрасным видом на него и сама была хорошо видна с моря, на краю цепи холмов, спускающихся террасами к порту. Почва в непосредственной близости, частично известковая, частично песчаная, по описанию капитана Бичи, отличается буйной растительностью и замечательным плодородием, хотя древние считали её в этом отношении уступающей Барке [62] и Гесперидам, и ещё более – более западным районам близ Кинипа. Но обильные сезонные дожди, притягиваемые окружающими высотами и оправдывающие выражение «продырявленное небо», были даже важнее, под африканским солнцем, чем исключительное плодородие почвы. [63] Приморские районы близ Кирены, Барки [p. 33] и Гесперид производили масло и вино, а также зерно, в то время как обширная территория между этими городами, состоящая из чередующихся гор, лесов и равнин, была идеально подходит для пастбищ и скотоводства; а порты были безопасны, предоставляя удобства для торговли греческих купцов с Северной Африкой, каких не было вдоль всего побережья Большого Сирта к западу от Гесперид. Обилие пригодной земли, – большое разнообразие климата и сезонов урожая между побережьем, низкими холмами и верхними горами на небольшом пространстве, так что жатва шла непрерывно, а свежие продукты поступали с земли в течение восьми месяцев в году, – а также монополия на ценное растение сильфий, которое росло только в Киренаике и сок которого широко требовался по всей Греции и Италии, – привели к быстрому росту Кирены, несмотря на серьёзные и повторяющиеся политические потрясения. И даже сейчас огромные руины, отмечающие её опустевшее место, следы прошлых трудов и забот у Источника [p. 34] Аполлона и в других местах, наряду с обилием высеченных и украшенных гробниц, – достаточно свидетельствуют о том, каким великим было это место во времена Геродота и Пиндара. Настолько киренцы гордились сильфием, дико росшим в их глубинке, от острова Платея на востоке до внутренней части Большого Сирта на западе, – листья которого были очень полезны для скота, стебель – для людей, а корень давал особый сок на экспорт, – что утверждали, будто он впервые появился за семь лет до прибытия первых греческих колонистов в их город. [64]
Но не только свойства почвы способствовали процветанию Кирены. Исократ [65] хвалит удачно выбранное место для этой колонии, поскольку она была основана среди местных племён, легко поддающихся подчинению, и далеко от серьёзных врагов. Нет сомнений, что коренные ливийские племена в значительной степени способствовали росту греко-ливийских городов; и, рассматривая историю этих городов, мы должны помнить, что их население не было чисто греческим, а в большей или меньшей степени смешанным, как в колониях Италии, Сицилии или Ионии. Хотя наши сведения очень неполны, мы видим достаточно, чтобы убедиться: небольшой отряд, приведённый Баттом Косноязычным, сначала сумел сблизиться с коренными ливийцами, а затем, усиленный новыми колонистами и используя власть местных вождей, подчинил их. Кирена – вместе с Баркой и Гесперидами, обеими выросшими из её корня [66] – держала под своим влиянием ливийские племена между границами Египта и внутренней частью Большого Сирта на протяжении трёх градусов долготы, обладая таким же превосходством, какое Карфаген имел над более западными ливийцами у Малого Сирта. В пределах киренейских владений и далее на запад вдоль берегов Большого Сирта ливийские племена вели кочевой образ жизни; западнее, за озером Тритонида и Малым Сиртом [67], они начинали заниматься земледелием.
Непосредственно к западу от Египта жили адримахиды, граничившие с Аписом и Мареей – пограничными египетскими городами [68]; они подчинялись египтянам и переняли некоторые детали их обрядов и религиозных обычаев, характерных для региона Нила. Западнее адримахид располагались гилигаммы, асбисты, авсхисы, кабалесы и насамоны – последние занимали юго-восточный угол Большого Сирта; далее шли маки, гинданы, лотофаги, махлии вплоть до реки и озера Тритон и Тритонида, которые, по-видимому, находились близ Малого Сирта. Эти последние племена во времена Геродота не зависели ни от Кирены, ни от Карфагена, и, вероятно, оставались независимыми в период расцвета свободной Греции (600–300 гг. до н. э.). В III веке до н. э. птолемеевские правители Кирены расширили свои владения на запад, в то время как Карфаген продвигал свои колонии и крепости на восток, так что две державы разделили между собой всё побережье между Большим и Малым Сиртом, встретившись у места, называемого Алтарями Братьев Филенов, – столь знаменитого благодаря своей легенде [69]. Но уже в VI веке до н. э. Карфаген, опасаясь распространения греческих колоний вдоль этого побережья, помог ливийским макам [стр. 36] (около 510 г. до н. э.) изгнать спартанского царевича Дориея с его поселения у реки Кинипс.
Недалеко от этого места позже была основана финикийскими или карфагенскими изгнанниками Лептис Магна [70] (ныне Лебда), которая, по-видимому, не существовала во времена Геродота. Также этот историк не упоминает мармаридов, которые в период между Скилаком и III веком н. э. выступают как главное ливийское племя к западу от Египта. Какая-то миграция или переворот после эпохи Геродота должны были выдвинуть это имя на первый план [71].
Внутренние области, простирающиеся к западу от Египта вдоль 30-й и 31-й параллелей до Большого Сирта, а затем вдоль южного берега этого залива, в значительной степени представляют собой низменную песчаную равнину, совершенно лишённую деревьев, но во многих местах обладающую водой, растительностью и плодородной почвой [72]. Однако прибрежный регион к северу от неё, образующий выступ африканского побережья от острова Платея (залив Бомба) на востоке до Гесперид (Бенгази) на западе, имеет совершенно иной характер: он покрыт горами значительной высоты, достигающими наибольшей точки близ Кирены, перемежающимися плодородными равнинами и долинами, изрезанными частыми оврагами, по которым зимние потоки устремляются в море, и никогда не испытывающими недостатка в воде. Именно это преимущество привлекает сюда каждое лето бедуинских арабов, которые стекаются к неиссякаемому источнику Аполлона и другим местам горного региона от Кирены до Гесперид, когда в глубине страны иссякают запасы воды и травы [73]. То же самое обстоятельство в древние времена должно было удерживать кочевых ливийцев в определённой зависимости от Кирены и Барки.
Кирена заняла прибрежную часть территории ливийских асбистов [74]; авсхисы занимали область к югу от Барки, выходя к морю у Гесперид, – кабалесы жили возле Тевхиры на территории Барки. Внутренние просторы эти ливийские кочевники с их стадами и складными шатрами пересекали свободно, питаясь в основном мясом и молоком [75], одеваясь в козьи шкуры и отличаясь, по словам Геродота, лучшим здоровьем, чем любой другой известный ему народ. Их порода лошадей была превосходной, а их колесницы или повозки, запряжённые четвёркой, демонстрировали такие трюки, что вызывали восхищение даже у греков: именно этим лошадям князья [76] и знатные граждане Кирены и Барки часто были обязаны успехами своих колесниц на играх в Греции.
Ливийские насамоны, оставляя скот у моря, ежегодно совершали путешествие вглубь страны к оазису Аугила, чтобы собрать урожай фиников или купить их [77] – путешествие, которое бедуинские арабы из Бенгази совершают и по сей день, везя туда пшеницу и ячмень для той же цели. Каждое ливийское племя отличалось особым способом стрижки волос и некоторыми особенностями религиозных обрядов, хотя в целом все поклонялись Солнцу и Луне [78]. Но в окрестностях озера Тритонида (по-видимому, западного предела греческой морской торговли во времена Геродота, который мало что знал дальше и начинал ссылаться на карфагенские источники) греческие божества Посейдон и Афина, а также легенда о Ясоне и аргонавтах, были локализованы. Кроме того, ходили пророчества, предвещавшие, что однажды вокруг озера будет основано сто греческих городов, – и что один город на острове Фла, окружённый озером, будет заселён лакедемонянами [79]. Впрочем, это было одним из многих несбывшихся пророчеств, которые со всех сторон обманывали греков, – вероятно, в данном случае распространяемых киренскими или ферскими торговцами, считавшими это место удобным для поселения и выдававшими свои надежды за божественные предсказания.











