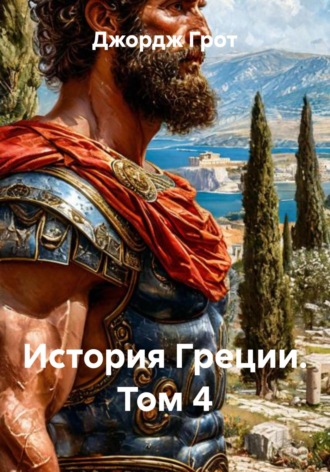
Полная версия
История Греции. Том 4
Глава XXXVII.
ИОНИЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ. – ПИФАГОР. – КРОТОН И СИБАРИС.
Фаларис, тиран Агригента. – Фалес. – Ионийские философы – не школа и не преемственность. – Шаг в философии, начатый Фалесом. – Грандиозные проблемы при скудных средствах решения. – Одна из причин скептической струи в греческой философии. – Фалес – первоначальная стихия воды, или жидкости. – Анаксимандр. – Проблема Единого и Многого – Постоянного и Переменного. – Ксенофан – его учение противоположно учению Анаксимандра. – Элейская школа, Парменид и Зенон, происходящие от Ксенофана – их диалектика – их огромное влияние на греческую мысль. – Ферекид. – История Пифагора. – Его характер и учения. – Пифагор больше миссионер и учитель, чем политик – его политическая эффективность преувеличена поздними свидетелями. – Его этическое воспитание – вероятно, не применялось ко всем членам его ордена. – Упадок и последующее возрождение пифагорейского ордена. – Пифагор не просто заимствователь, но оригинальный и возвышающийся ум. – Он переходит с Самоса в Кротон. – Состояние Кротона – олигархическое правление – отличная гимнастическая подготовка и медицинское искусство. – Быстрые и удивительные эффекты, которые, как говорят, произвели увещания Пифагора. – Он образует могущественный клуб, или общество, состоящее из трёхсот человек, взятых из богатых классов Кротона. – Политическое влияние Пифагора – было косвенным результатом устройства ордена. – Причины, приведшие к свержению пифагорейского ордена. – Насилия, сопровождавшие его свержение. – Пифагорейский орден сводится к религиозной и философской секте, в каковом качестве продолжает существовать. – Война между Сибарисом и Кротоном. – Поражение сибаритов и разрушение их города, отчасти благодаря помощи спартанского царевича Дориэя. – Волнение, вызванное в эллинском мире разрушением Сибариса. – Постепенный упадок греческого могущества в Италии. – Противоречивые утверждения и доводы относительно присутствия Дориэя. – Геродот не упоминает пифагорейцев, когда говорит о войне между Сибарисом и Кротоном. – Харонд, законодатель Катаны, Наксоса, Занклы, Регия и др.
[стр. 1]
ЧАСТЬ II.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.
Глава XXV.
ИЛЛИРИЙЦЫ, МАКЕДОНЯНЕ, ПЕОНИЙЦЫ.
К северу от племён, называемых эпиротами, располагались более многочисленные и широко рассеянные племена, носившие общее название иллирийцев; они были ограничены на западе Адриатическим морем, на востоке – горной цепью Скардуса, северным продолжением Пинда, – и таким образом занимали территорию, ныне называемую Средней и Верхней Албанией, а также более северные горы Черногории, Герцеговины и Боснии. Их границы на севере и северо-востоке невозможно точно определить, но дараданы и аутариаты, должно быть, простирались до северо-востока от Скардуса и даже восточнее сербской равнины Косово; вдоль же Адриатического побережья Скилакс распространяет этот народ так далеко на север, что включает Далмацию, считая либурнов и истров, живущих далее, не иллирийцами: однако Аппиан и другие авторы относят либурнов и истров к иллирийцам, а Геродот даже включает под этим названием энетов, или венетов, находящихся в самой глубине Адриатического залива. [1] Согласно Скилаксу, булины были самым северным иллирийским племенем; аманты же, жившие непосредственно к северу от эпирского племени хаонов, были [p. 3] самым южным. Среди южных иллирийских племён следует упомянуть таулантиев – изначальных владельцев, а впоследствии ближайших соседей территории, на которой был основан Эпидамн. Древний географ Гекатей [2] (около 500 [p. 4] г. до н. э.) знал их достаточно хорошо, чтобы указать их город Сесаретус: он также называл хелидониев их северными, а энхелеев – южными соседями; а также племя абри, жившее по соседству. Мы слышим об иллирийских парфинах, обитавших примерно в тех же краях, – о дассаретиях, [3] близ озера Лихнид, – о пенестах с укреплённым городом Ускана к северу от дассаретиев, – об ардиеях, аутариатах и дараданах, населявших Верхнюю Албанию на восток вплоть до Верхней Мизии, включая сам хребет Скардуса; так что некоторые иллирийские племена граничили на востоке с македонянами, а на юге – как с македонянами, так и с пеонийцами. Страбон даже распространяет некоторые иллирийские племена гораздо дальше на север, почти до Юлийских Альп. [4]
За исключением некоторых частей территории, ныне называемой Средней Албанией, земли этих племен состояли преимущественно из горных пастбищ с некоторой долей плодородных долин, но редко расширялись в равнины. Автариаты имели репутацию невоинственных, но в целом иллирийцы были бедны, хищны, свирепы и грозны в бою. Они разделяли с отдаленными фракийскими племенами обычай татуировать [5] свои тела и приносить человеческие жертвы; более того, они всегда были готовы продавать свою военную службу, подобно современным албанским шкипетарам, в чьих жилах, вероятно, до сих пор течет их кровь, хотя и с значительной примесью от последующих переселений. Об иллирийском царстве на адриатическом побережье со столицей в Ско́дре (Скутари), которое стало грозным благодаря своим безрассудным пиратским набегам в III веке до н. э., мы ничего не слышим в период расцвета греческой истории. Описание Скилака упоминает в его время значительную и постоянную торговлю вдоль северной Адриатики между побережьем и внутренними районами, которую вели либурны, истры и небольшие греческие островные поселения Фарос и Исса. Но он не называет Ско́дру, и, вероятно, этот укрепленный пункт – вместе с греческим городом Лисс, основанным Дионисием Сиракузским – был занят после его времени завоевателями из внутренних областей, [6] предшественниками Агрона и Гентия, – подобно тому как прибрежные земли Термейского залива были завоеваны македонцами из глубины страны.
Однажды во время Пелопоннесской войны отряд наемных иллирийцев, вторгшийся в Македонию Линкестиду (по-видимому, через перевал Скард, немного восточнее Лихнида, или Охрида), испытал доблесть спартанца Брасида; и в этом случае – как и в упомянутом выше походе эпиротов против Акарнании – мы заметим явное превосходство греческого характера, даже в случае войска, состоявшего в основном из недавно освобожденных илотов, над македонцами и иллирийцами, – мы увидим контраст между храбрецами, действующими сообща и подчиняющимися общей власти, и нападающей толпой воинов, не менее храбрых поодиночке, но где каждый сам себе господин, [7] и сражается как ему угодно. Стремительный и яростный натиск иллирийцев, если первый удар не достигал цели, сменялся столь же быстрым отступлением или бегством. После этого мы ничего не слышим об этих варварах вплоть до времени Филиппа Македонского, чья энергия и военная мощь сначала подавили их набеги, а затем частично покорили их. По-видимому, примерно в этот период (400–350 гг. до н. э.) произошло [стр. 6] великое движение кельтов с запада на восток, которое привело галльских скордисков и другие племена в земли между Дунаем и Адриатическим морем и, вероятно, вытеснило некоторых северных иллирийцев, заставив их искать новые предприятия и новые места обитания.
Территория, ныне называемая Средней Албанией, иллирийские земли непосредственно к северу от Эпира, гораздо плодороднее последнего. [8] Хотя она и гориста, здесь больше и низких холмов, и долин, а также обширных и более плодородных пахотных пространств. Эпидамн и Аполлония служили морскими портами этой территории, и торговля с южными иллирийцами, менее варварскими, чем северные, была одним из источников [9] их процветания в течение первого века их существования, – процветания, прерванного в случае эпидамнийцев внутренними раздорами, которые ослабили их превосходство над иллирийскими соседями и в конечном итоге поставили их в оппозицию к своей метрополии Керкире. Торговля между этими греческими портами и внутренними племенами, когда первые стали достаточно сильны, чтобы сделать безнадежными нападения со стороны последних, была взаимовыгодной для обеих сторон. Греческое масло и вино проникали к этим варварам, чьи вожди одновременно учились ценить тканые изделия, [10] полированные и резные металлические изделия, закаленное оружие и керамику, созданные греческими мастерами. Более того, ввоз соленой рыбы, а особенно соли, имел огромное значение для этих жителей внутренних областей, особенно для таких мест, как окрестности Лихнида, где было озеро, богатое рыбой. Известно о войнах между автариатами и ардиеями из-за соляных источников у их границ, а также о других племенах, которых лишение соли вынудило подчиниться [стр. 7] римлянам. [11] С другой стороны, эти племена обладали двумя предметами обмена, столь ценными в глазах греков, что Полибий считал их абсолютно незаменимыми, [12] – скотом и рабами; [стр. 8] последних, несомненно, добывали в Иллирии, часто в обмен на соль, как и во Фракии, на Понте Эвксинском и в Аквилее на Адриатике, благодаря междоусобным войнам племен. В Иллирии разрабатывались серебряные рудники в Дамастионе. Воск и мед, вероятно, также были предметами экспорта, и доказательством того, что природные богатства Иллирии тщательно разыскивались, служит тот факт, что особый вид ириса, характерный для этой страны, собирали и отправляли в Коринф, где его корень использовали для придания особого аромата знаменитому виду благовонного масла. [13]
Взаимодействие между греческими портами и внутренними иллирийцами не ограничивалось торговлей. Греческие изгнанники также проникали в Иллирию, а греческие мифы обретали там новую родину, как видно из сказания о Кадме и Гармонии, от которых вели свое происхождение вожди иллирийских энхелеев. [14]
Македонцы IV века до н. э., благодаря способностям и предприимчивости двух последовательных царей, достигли высокого уровня греческой военной организации, не переняв при этом более возвышенных эллинских качеств. Их деятельность в Греции носила исключительно разрушительный характер: они подавили свободное развитие отдельных городов и разоружили граждан-воинов, чтобы расчистить место для иностранных наемников, чьи мечи не освящались никакими патриотическими чувствами, – и при этом оказались совершенно неспособными создать какую-либо эффективную систему централизованного или мирного управления.
Однако македонцы VII и VI веков до н. э. представляли собой лишь совокупность грубых племен, живших в глубине материка, разделенных на мелкие княжества и отдаленных от греков еще большей этнической разницей, чем даже эпироты. Ведь Геродот, считавший молоссов и феспротов эпиротов потомками Эллина, определенно придерживался противоположного мнения относительно македонцев. [15] В целом, однако, в этот ранний период они, по-видимому, были схожи с эпиротами по характеру и уровню цивилизации. У них было несколько городов, но в основном они жили в деревнях, отличаясь храбростью и воинственностью. Обычаи некоторых их племен предписывали, чтобы человек, еще не убивший врага, в определенных случаях носил позорный знак отличия. [16]
Исконные земли македонцев располагались к востоку от хребта Скардус (северного продолжения Пинда) – к северу от цепи Камбунских гор, соединяющих Олимп с Пиндом и образующих северо-западную границу Фессалии. Однако они не простирались так далеко на восток, как Термейский залив; по-видимому, их восточная граница не заходила дальше горы Бермий, примерно на долготе Эдессы и Беррои. Таким образом, они занимали верховья рек Галиакмон и Эригон до их слияния с Аксием, тогда как верхнее течение Аксия выше этой точки, вероятно, принадлежало Пеонии, – хотя границы Македонии и Пеонии никогда не были четко определены.
Обширная территория между указанными границами в значительной степени гориста, занята боковыми хребтами и возвышенностями, связанными с основной линией Скардуса. Однако она также включает три обширные аллювиальные равнины, пригодные для [стр. 10] земледелия: равнину Тетово, или Калканделе (самую северную из трех), где берут начало и протекают верховья Аксия (Вардара); равнину Битолы, во многом совпадающую с древней Пелагонией, по которой течет Эригон к Аксию; и более обширную холмистую котловину Гревено и Анаселицы, содержащую верхний Галиакмон с его притоками. Последний регион отделен от Фессалийской равнины длинной горной грядой, но с множеством удобных перевалов. [17]
Если считать Фессалийскую равнину четвертой, то на восточной стороне этой длинной цепи Скардуса и Пинда расположены четыре обособленные замкнутые равнины, каждая из которых ограничена горами, круто поднимающимися до альпийских высот, и имеет лишь один выход для стока через единственную реку – соответственно Аксий, Эригон, Галиакмон и Пеней. Кроме того, все четыре, хотя и расположены высоко над уровнем моря, отличаются плодородием, особенно равнины Тетово, Битолы и Фессалии. Тучные, богатые земли к востоку от Пинда и Скардуса резко контрастируют с легкими известковыми почвами албанских долин на западной стороне.
Котловины Битолы и Галиакмона с окружающими и прилегающими горами принадлежали исконным македонцам; Тетово на севере – части пеонийцев. Из четырех Фессалия самая обширная, но две, входившие в первоначальные владения македонцев, также весьма значительные по размеру, представляли собой территорию, более благоприятную для роста населения, чем менее щедрые земли и узкие долины эпиротов или иллирийцев. Обилие легко выращиваемого зерна, пастбищ для скота и новых плодородных земель способствовало увеличению числа закаленных деревенских жителей, равнодушных к роскоши и накоплению, и свободных от грабительского гнета правителей, который сегодня угнетает эти прекрасные края. [18]
[стр. 11] Жители этой древней Македонии, несомненно, различались в античные времена, как и сейчас, в зависимости от того, обитали ли они в горах или на равнине, в более или менее благоприятных почвенно-климатических условиях. Однако все они признавали общее этническое имя и национальность, а племена часто отличались друг от друга не собственными названиями, а лишь локальными эпитетами греческого происхождения. Так, мы встречаем элимиотов-македонцев, или македонцев из Элимеи, – линкестов-македонцев, или македонцев из Линка, и т. д. Орестами, несомненно, также называли аналогичным образом.
[стр. 12] Жители более северных областей, Пелагонии и Деурописа, также входили в македонскую общность, хотя были соседями пеонийцев, с которыми имели много общего. Сложнее сказать, принадлежали ли эорды и алмопы к македонской расе. Македонский язык отличался от иллирийского, [19] фракийского и, по-видимому, также от пеонийского. Он также отличался от греческого, но, вероятно, не сильнее, чем язык эпиротов, – так что усвоение греческого языка было для вождей и народа относительно легким, хотя некоторые греческие буквы они так и не могли правильно произносить.
И если мы проследим их историю, то обнаружим в них больше черт регулярных воинов, завоевывающих ради поддержания власти и дани, и меньше – вооруженных грабителей, чем у окружавших их иллирийцев, фракийцев или эпиротов. Они ближе к фессалийцам [20] и другим, менее одаренным членам эллинской семьи.
Большой и сравнительно плодородный регион, занимаемый различными группами македонцев, помогает объяснить то возрастающее влияние, которое они постепенно приобрели над всеми своими соседями. Однако лишь в поздний период они объединились под единым правительством. Изначально каждая группа – сколько именно, мы не знаем – имела своего собственного князя или вождя.
Элимиоты, или жители Элимеи, самой южной части Македонии, изначально были отдельными и независимыми; также оресты, обитавшие в горных районах несколько северо-западнее эли [стр. 13] миотов, – линкесты и эорды, занимавшие территории вдоль позднейшей Эгнатиевой дороги между Лихнидом (Охридом) и Эдессой, – пелагонцы [21], с одноимённым городом в плодородной долине Битолы, – и более северные деуриопы.
Ранние политические объединения были настолько слабыми, что каждое из этих названий, вероятно, включало множество мелких независимых образований – небольших городов и деревень. Та часть македонцев, которая впоследствии поглотила все остальные и стала известна как собственно македонцы, изначально имела свой центр в Эгах, или Эдессе – на возвышенном, господствующем и живописном месте современного Водена. И хотя в более поздние времена резиденция царей была перенесена в болотистую Пеллу, расположенную в приморской равнине ниже, Эдесса оставалась местом царских захоронений и символическим очагом, с которым была связана религиозная преемственность народа, столь почитаемая в древности.
Этот древний город, лежавший на римской Эгнатиевой дороге от Лихнида до Пеллы и Фессалоники, служил перевалом через горный хребет Бермий – северное продолжение Олимпа, через которое Галиакмон прорывается к приморской равнине у Веррии по ущелью, ещё более крутому и труднопроходимому, чем ущелье Пенея в Темпейской долине.
Горная цепь Бермий, протянувшаяся от Олимпа далеко к северу от Эдессы, изначально служила восточной границей македонских племён, которые, по-видимому, сначала не достигали долины Аксия ни на одном участке его течения и уж точно не выходили к Термейскому заливу. Между этим заливом и восточными отрогами Олимпа и Бермия существует узкая полоса равнинной земли и низких холмов, простирающаяся от устья Пенея до вершины Термейского залива. Там она расширяется в обширную и плодородную равнину Салоников, включающую устья Галиакмона, Аксия и Эхедора: река Лудий, текущая из Эдессы в болота вокруг Пеллы и в древности впадавшая в Галиакмон близ его устья, теперь изменила своё русло и соединяется с Аксием.
Эта узкая полоса между [стр. 14] устьями Пенея и Галиакмона была изначальным местом обитания пиерийских фракийцев, живших у подножия Олимпа, среди которых культ Муз, по-видимому, был исконной чертой. Греческая поэзия изобилует местными намёками и эпитетами, которые, вероятно, восходят к этому раннему факту, хотя мы не можем проследить это в деталях.
К северу от пиерийцев, от устья Галиакмона до устья Аксия, жили боттиеи [22]. За рекой Аксий, в нижнем [стр. 15] течении, начинались племена великого фракийского народа – мигдоны, крестоны, эдоны, бисалты, сифоны: из них мигдоны, по-видимому, изначально были наиболее могущественными, поскольку страна даже после македонского завоевания продолжала называться Мигдонией. Эти и другие фракийские племена изначально занимали большую часть территории между устьями Аксия и Стримона, включая знаменитый трёхзубчатый полуостров, получивший от греческих колоний имя Халкидика.
Таким образом, если считать боттиеев, как и пиерийцев, фракийцами, то фракийский народ изначально простирался на юг вплоть до устья Пенея. Боттиеи, правда, заявляли о своём критском происхождении, но это утверждение не упоминается ни Геродотом, ни Фукидидом. Во времена Скилака [23], по-видимому, в раннее правление Филиппа, сына Аминты, Македония и Фракия разделялись Стримоном.
Остаётся упомянуть пеонов – многочисленный и раздробленный народ, по-видимому, не принадлежавший ни к фракийцам, ни к македонцам, ни к иллирийцам, но считавший себя потомками тевкров из Трои. Они занимали оба берега Стримона от окрестностей горы Скомий, где берёт начало эта река, вплоть до озера у её устья. Некоторые из их племён владели плодородной равниной Сирис (ныне Серрес), землями к северу от Пангея и даже частью территории, по которой Ксеркс шёл от Аканфа к Ферме.
Кроме того, верхние части долины Аксия также были заселены пеонскими племенами; как далеко вниз по реке они простирались, мы сказать не можем. Не следует думать, что вся территория между Аксием и Стримоном была сплошь заселена ими. Непрерывность заселения не была характерна для древнего мира, и, кроме того, в то время как земли вдоль обеих рек во многих местах исключительно плодородны, пространства между ними представляют собой либо горы, либо бесплодные низкие холмы – резко контрастируя с богатой аллювиальной долиной македонской реки Эригон [24].
Таким образом, пеоны на северо-западе граничили с македонской Пелагонией, на севере – с иллирийскими дарданами и аутариатами, на востоке, юге и юго-востоке – с фракийцами и пиерийцами [25], то есть с землями, куда были оттеснены пиерийцы под Пангеем.
Таково было, насколько мы можем это установить, положение македонцев и их ближайших соседей в VII веке до н. э. Впервые оно изменилось благодаря предприимчивости и способностям семьи изгнанных греков, которые привели часть македонского народа к завоеваниям, впоследствии невероятно умноженным их потомками – Филиппом и Александром Великим.
Глава XXVI.
ФРАКИЙЦЫ И ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ ВО ФРАКИИ.
Обширное пространство между реками Стримоном и Дунаем, ограниченное на западе восточными иллирийскими племенами к северу от Стримона, было занято бесчисленными племенами народа, называемого фракийцами, или трерами. По словам Геродота, это был самый многочисленный и самый грозный народ из всех известных ему: если бы они могли объединиться под одной властью (говорит он), они были бы непобедимы. Подобная угрожающая ситуация едва не сложилась в первые годы Пелопоннесской войны при правлении Ситалка, царя одрисов, который правил от Абдеры у устья Неста до Понта и подчинил своей власти значительную часть этих свирепых, но воинственных грабителей, так что даже греки вплоть до Фермопил трепетали перед его ожидаемым нашествием. Однако способности этого правителя оказались недостаточными, чтобы эффективно объединить все силы Фракии для совместных действий против других.
Хотя фракийские племена были многочисленны, их обычаи и характер (по Геродоту) отличались значительным единообразием: о гетах, траузах и других он сообщает несколько особенностей. Обширная территория, на которой расселился этот народ, включала весь хребет Гема и ещё более высокий Родопы, а также часть гор Орбел и Скомий, но частично она состояла из равнинных и плодородных земель – таких, как великая равнина Адрианополя и земли в нижнем течении рек Нест и Гебр. Фракийцы равнин, хоть и не менее воинственные, были всё же более оседлыми и менее алчными до чужой добычи, чем их горные собратья. Однако общий характер этого народа представлял собой совокупность отталкивающих черт, не смягчённых даже простейшими проявлениями семейных привязанностей [с. 21]. [34] Фракийский вождь возводил свою родословную к богу, которого греки называли Гермесом, и приносил ему жертвы отдельно от своего племени, иногда в виде желанного дара – человеческой жертвы. Он наносил татуировки на своё тело [35] и на тела своих женщин как знак благородного происхождения: он покупал жён у их родителей и продавал своих детей иностранным купцам для вывоза; он считал позором обрабатывать землю и чувствовал честь только в добыче, добытой войной и грабежом. Фракийские племена поклонялись божествам, которых греки отождествляли с Аресом, Дионисом и Артемидой: великое святилище и оракул их бога Диониса находился на одной из высочайших вершин Родоп, среди густых и туманных зарослей – обители свирепых и неприступных сатров. Чтобы проиллюстрировать фракийский характер, можно обратиться к поступку, совершённому царём бизалтов – возможно, одним из нескольких вождей этого обширного фракийского племени, чьи земли между Стримоном и Аксием лежали на прямом пути Ксеркса в Грецию. Он бежал на пустынные высоты Родоп, чтобы избежать позора быть втянутым в число принудительных союзников персидского вторжения, и запретил своим шести сыновьям участвовать в нём. Из-за безрассудства или любопытства сыновья ослушались его и последовали за Ксерксом в Грецию; они вернулись невредимыми от греческого копья, но разгневанный отец, когда они вновь предстали перед ним, приказал выколоть всем им глаза. Успех у фракийцев проявлялся в повышенной готовности проливать кровь; но как воины – единственное занятие, которое они уважали, – они были не менее храбры, чем выносливы, и стойко держались в своём особом строю против сил, значительно превосходивших их в военном искусстве. [36] Кажется, что финийцы и би [p. 22] финцы [37] на азиатской стороне Босфора, а возможно, и мисийцы, принадлежали к этому великому фракийскому народу, который также был отдалённо связан с фригийцами. И весь этот народ можно охарактеризовать как более азиатский, чем европейский, особенно в тех экстатических и неистовых религиозных обрядах, которые были распространены не меньше среди эдонских фракийцев, чем в горах Иды и Диндимона в Азии, хотя и с некоторыми важными различиями. Фракийцы поставляли грекам наёмных воинов и рабов, а многочисленные греческие колонии на побережье смягчили нравы ближайших племён, между вождями которых и греческими лидерами нередко заключались браки. Однако племена в глубине страны, по-видимому, сохранили свои дикие обычаи с небольшими изменениями, так что слова Тацита [38], описывающие их, являются уместным продолжением слов Геродота, хотя и написанным более чем пять веков спустя.
Отмечать положение каждого из множества различных племен на огромной территории Фракии, которая даже сейчас изучена настолько неполно и плохо картографирована, было бы излишне и даже невозможно. Я перейду к описанию основных греческих колоний, основанных в этой стране, упоминая попутно те фракийские племена, с которыми они соприкасались.











