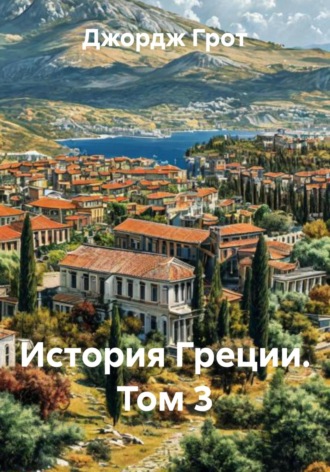
Полная версия
История Греции. Том 3
Поскольку не было нового чувства, на котором могла бы основываться власть постоянного правителя, не было и ничего в обстоятельствах общества, что делало бы поддержание такого достоинства необходимым для видимого и эффективного единства: [17] в одном городе и небольшой прилегающей общине коллективное обсуждение и общие правила с временными и ответственными магистратами были осуществимы без труда.
Сохранение безответственного царя и затем создание механизмов, которые извлекали бы из него преимущества ответственного правления, на деле представляет собой крайне сложную систему, хотя, как уже отмечалось, в современной Европе мы к ней привыкли. Более простым и очевидным изменением была бы замена самого царя одним или несколькими временными и подотчетными магистратами. Именно такой путь развития событий наблюдался в Греции. Младшие вожди, изначально составлявшие совет при царе, сочли возможным отстранить его и по очереди брать на себя административные функции, вероятно, сохраняя при этом периодический созыв народного собрания в его прежнем виде и с не большей практической эффективностью. В целом такова была суть перемены, произошедшей повсеместно в греческих государствах, за исключением Спарты: царская власть была упразднена, и ее место заняла олигархия – совет, принимавший решения коллективно, решавший общие вопросы большинством голосов и избиравший из своего состава отдельных лиц в качестве временных и подотчетных [стр. 16] администраторов.
На смену героической монархии всегда приходила олигархия: до эпохи демократических движений было еще далеко, и положение народа – основной массы свободных граждан – не изменилось немедленно, ни к лучшему, ни к худшему, в результате этой революции. Небольшая группа привилегированных лиц, между которыми распределялись и сменяли друг друга царские полномочия, состояла из тех, кто стоял ближе всего к царю по статусу, возможно, из членов того же крупного рода, что и он, и претендовала на общее божественное или героическое происхождение. Насколько мы можем судить, эта перемена произошла естественным путем, без насилия. Иногда царская линия пресекалась и не возобновлялась; иногда после смерти царя его сын и преемник признавался [18] лишь архонтом, а то и вовсе отстранялся, чтобы уступить место притану или президенту из числа знатных лиц.
В Афинах, как нам известно, последним царем был Кодр, а его потомки признавались лишь пожизненными архонтами; спустя несколько лет пожизненных архонтов сменили десятилетние, избираемые из числа эвпатридов, или знати; впоследствии срок архонтства был сокращен до одного года. В Коринфе, как говорят, древние цари аналогичным образом уступили место олигархии Бакхиадов, из числа которых избирался ежегодный притан. Мы можем установить лишь сам факт такой перемены, не зная, как именно она происходила, – наше первое историческое знакомство с греческими городами начинается уже с этих олигархий.
[стр. 17] Подобные олигархические правительства, различавшиеся в деталях, но схожие в основных чертах, были распространены как в городах собственно Греции, так и в колониях на протяжении VII века до н. э. Хотя они мало способствовали непосредственной выгоде основной массы свободных граждан, но в сравнении с предшествовавшим героическим правлением они знаменовали важный шаг вперед – первое принятие продуманной и заранее определенной системы управления общественными делами. [19] Они демонстрируют первые свидетельства новых и важных политических идей в греческом сознании – разделение законодательной и исполнительной властей: первая вручалась коллективному органу, не только обсуждавшему, но и окончательно решавшему вопросы, тогда как вторая доверялась временным индивидуальным магистратам, подотчетным этому органу по истечении срока их полномочий. Впервые мы встречаемся с общиной граждан по определению Аристотеля – людей, способных и считающих себя способными по очереди командовать и подчиняться. Так формируется коллективный суверен, именуемый Городом. Правда, эта первая община граждан включала лишь малую часть лично свободных людей, но идеи, на которых она основывалась, постепенно начали озарять умы всех. Политическая власть утратила свой богоустановленный характер и стала атрибутом, юридически передаваемым и ограниченным определенными целями; так была заложена почва для тех тысяч вопросов, которые волновали многие греческие города в последующие три столетия – отчасти касавшихся ее распределения, отчасти ее применения, – вопросов, поднимавшихся как среди членов привилегированной олигархии, так и между этим сословием в целом и непривилегированным большинством. Семена тех народных движений, которые вызывали столь глубокие эмоции, столь bitter неприязнь, столько энергии и талантов во всем греческом мире, с различными вариациями в каждом отдельном городе, могут быть, таким образом, [стр. 18] прослежены до той ранней революции, которая возвела примитивную олигархию на руинах героического царства.
У нас нет прямых сведений о том, как управлялись эти первые олигархии, но узкие и антинародные интересы, естественно присущие привилегированному меньшинству, вместе с общей склонностью к насилию в частных нравах и страстях, не дают нам оснований предполагать что-либо хорошее ни об их благоразумии, ни о добрых намерениях; а факты, известные нам о положении Аттики до законодательства Солона (о чем пойдет речь в следующей главе), позволяют сделать лишь неблагоприятные выводы.
Первый удар, который они испытали и который опрокинул так многих из них, был нанесён узурпаторами, именуемыми тиранами. Эти честолюбцы использовали широко распространённое недовольство как предлог и как орудие для достижения личной власти, а их частый успех свидетельствует о том, что недовольство было и повсеместным, и глубоким. Тираны вышли из недр самих олигархий, но не все одним и тем же способом. [20]
Иногда должностное лицо, наделённое олигархией значительной властью на определённый срок, изменяло своим избирателям и, укрепившись у власти, удерживало её вопреки их воле – а порой даже передавало сыну. В других случаях, и, кажется, чаще, появлялся известный тип демагога, которого историки – как древние, так и современные – обычно изображают в самых непривлекательных красках: [21] человек энергии и честолюбия, иногда даже член самой олигархии, который выступал защитником обездоленных и угнетённых масс, завоёвывал их доверие и с их помощью [p. 19] настолько успешно низвергал олигархию, что сам становился тираном. Третью разновидность тирана представлял собой наглый богач, вроде Килона в Афинах, который, не утруждая себя даже видимостью народной поддержки, вдохновлялся примером подобных авантюристов в других местах, нанимал отряд телохранителей и захватывал акрополь. Встречались, хотя и редко, и тираны четвёртого рода – прямые потомки древних царей, – которые вместо того, чтобы подчиниться ограничениям, налагаемым олигархией, находили способ подчинить её себе и силой добивались власти, равной той, какой их предки обладали с общего согласия. К этому следует добавить, что в некоторых греческих государствах существовал также эсимнет, или диктатор, – гражданин, формально облечённый верховной и бесконтрольной властью, поставленный во главе войска и располагавший постоянной стражей, но лишь на определённый срок и для устранения какой-либо насущной опасности или губительных внутренних раздоров. [22] Человек, возвысившийся таким образом, обычно пользовался большим доверием и, как правило, был способным правителем; иногда он добивался такого успеха или становился настолько незаменимым для общества, что срок его полномочий продлевался, и он превращался в пожизненного тирана. А даже если общество и не желало уступать ему власть навсегда, он нередко был достаточно силён, чтобы удержать её против его воли.
Таковы были различные пути, которыми многочисленные греческие тираны VII и VI веков до н. э. приходили к власти. Хотя в общих чертах мы знаем об этом из кратких упоминаний Аристотеля, к сожалению, у нас нет ни одного современного описания какого-либо из этих государств, которое позволило бы нам детально оценить происходившие перемены. Среди тех, кто, обладая наследственной царской властью, расширил её до тирании, Аристотель называет в качестве примера Фидона Аргосского, чьё правление уже было описано в предыдущем томе. Среди тех, кто стал тираном, используя должностные полномочия, полученные при олигархии, он упоминает Фалариса в Агригенте, а также тиранов Милета и других городов ионийских греков. Среди поднявшихся благодаря демагогии он выделяет Панатия в сицилийских Леонтинах, Кипсела в Коринфе и Писистрата в Афинах. [23] Что же касается эсимнетов, или выборных тиранов, то самым ярким примером здесь является Питтак Митиленский. Воинственный и агрессивный демагог, свергающий олигархию, которая его унижала и притесняла, правящий несколько лет жестоким тираном и в конце концов низложенный и убитый, – таков образ Аристодема Кумского, нарисованный Дионисием Галикарнасским. [24]
Из общего описания Фукидида и Аристотеля мы узнаём, что VII и VI века до н. э. были для греческих городов временем прогресса – роста богатства, могущества и населения. Многочисленные колонии, основанные в этот период (о чём речь пойдёт в одной из последующих глав), служат дополнительным свидетельством этих прогрессивных тенденций. Те перемены в греческих правительствах, о которых шла речь, пусть и известные нам лишь в общих чертах, в целом являются явными признаками развития гражданского сознания. Ведь героическая власть, с которой начинается история греческих общин, – это самая грубая и инфантильная форма правления, лишённая даже видимости системы или гарантий, непредсказуемая и зависящая лишь от случайных качеств правящего лица, которое в большинстве случаев не только не защищало бедных от богатых и знатных, но и само, подобно им, предавалось страстям, пользуясь ещё большей безнаказанностью.
Тираны, которые во многих городах сменили олигархические правительства, хотя и управляли обычно узко и эгоистично, а зачастую и жестоко угнетали народ («не заботясь – по выразительным словам Фукидида – ни о чём, кроме собственного тела и собственной семьи»), всё же, поскольку они не были достаточно сильны, чтобы сломить греческий дух, преподали ему суровый, но поучительный политический урок и значительно расширили круг его опыта, определив в то же время его дальнейшие настроения. [25] Они отчасти разрушили преграду между народом – в собственном смысле слова, то есть общей массой свободных граждан – и олигархией; более того, тираны-демагоги интересны как первое свидетельство растущей политической роли народа. Демагог выступал как выразитель чувств и интересов народа против правящего меньшинства, вероятно, используя отдельные случаи злоупотреблений и стараясь вести себя лично скромно и великодушно; и когда народ своей вооружённой поддержкой помогал ему свергнуть существующих правителей, он имел удовлетворение видеть своего вождя у верховной власти, но сам не получал ни политических прав, ни дополнительных гарантий. Насколько существенную выгоду они извлекли из этого, помимо унижения прежних угнетателей, мы знаем слишком мало, чтобы судить; [26] но даже худший из тиранов был опаснее для богатых, чем для бедных, и последние, возможно, кое-что выиграли от перемены, по крайней мере в относительном значении, несмотря на свою долю в тяготах и поборах правительства, не имевшего иной прочной основы, кроме голого страха.
Здесь заслуживает особого внимания замечание Аристотеля, иллюстрирующее политический прогресс и воспитание греческих общин. Он проводит резкое различие между демагогом VII–VI веков и поздним демагогом, какового он сам и предшествующие поколения имели возможность наблюдать: первый был военным вождем, смелым и изобретательным, который брался за оружие во главе толпы народных повстанцев, свергал правительство силой и становился властителем как тех, кого он низложил, так и тех, чьей помощью он воспользовался; тогда как последний был оратором, обладающим всеми талантами, необходимыми для воздействия на аудиторию, но не склонным и не способным к вооруженной борьбе, – достигая всех своих целей мирными и конституционными методами.
Это ценное изменение – замена апелляции к оружию дискуссией и голосованием в собрании, а также обеспечение такого влияния принятых решений на умы людей, что даже несогласные вынуждены были признавать их окончательными и уважать, – возникло благодаря непрерывному практическому функционированию демократических институтов.
В дальнейшем ходе этой истории мне представится случай оценить ту беспредельную хулу, которая была возведена на афинских демагогов Пелопоннесской войны – Клеона и Гипербола; но даже если допустить, что вся она справедлива, останется не менее верным, что эти люди представляли собой значительный прогресс по сравнению с прежними демагогами, такими как Кипсел и Писистрат, которые использовали вооруженную поддержку народа для свержения существующего правительства и установления собственной деспотической власти.
Демагог по сути был лидером оппозиции, приобретавшим влияние благодаря обличению тех, кто реально находился у власти и осуществлял исполнительные функции. При ранних олигархиях его оппозиция могла проявляться только в форме вооруженного восстания и вела его либо к личному владычеству, либо к гибели; но развитие демократических институтов обеспечивало как ему, так и его политическим противникам полную свободу слова и верховное собрание, которое решало их спор, – одновременно ограничивая масштабы его амбиций и устраняя апелляцию к силе.
Таким образом, афинский демагог времен Пелопоннесской войны (даже если буквально принять описания его злейших врагов) был гораздо менее вредным и опасным, чем демагог-боец прежних столетий; и «развитие привычки к публичным речам» [27], как выражается Аристотель, было причиной этого различия: оппозиция языком стала благотворной заменой оппозиции мечом.
Возникновение этих деспотов на развалинах прежних олигархий казалось возвращением к принципам героической эпохи – восстановлением власти личной воли вместо системного порядка, известного как Полис. Но греческий ум уже настолько перерос эти ранние принципы, что никакое новое правительство, основанное на них, не могло встретить добровольного признания, разве что под влиянием временного возбуждения.
Поначалу, несомненно, популярность узурпатора – подкрепленная рвением его сторонников, изгнанием или запугиванием противников, а также наказанием богатых угнетателей – обеспечивала ему повиновение; и благоразумие с его стороны могло продлить это беспрекословное правление на значительный срок, возможно, даже на всю жизнь. Но Аристотель отмечает, что эти режимы, даже начавшиеся хорошо, имели постоянную тенденцию ухудшаться: недовольство проявлялось и усугублялось, а не подавлялось применяемым насилием, пока в конце концов деспот не оказывался во власти подозрительной и злобной тревоги, утрачивая всякую меру справедливости или доброжелательности, которая могла когда-то его вдохновлять.
Если ему удавалось передать власть сыну, тот, воспитанный в развращенной атмосфере и окруженный паразитами, приобретал еще более пагубные и антиобщественные наклонности: его юные страсти были неукротимее, в то время как ему недоставало благоразумия и энергии, которые были необходимы для самостоятельного возвышения его отца. [28]
Единственной опорой такого положения были наемные стражи и укрепленный акрополь – стража, содержавшаяся за счет граждан и потому требовавшая постоянных поборов в пользу того, что было не чем иным, как враждебным гарнизоном. Для безопасности деспота было необходимо подавлять дух [p. 24] свободного народа, которым он правил; изолировать людей друг от друга и предотвращать собрания и общение, обычные для греческих городов в школах, лешэ или палестрах; «срезать возвышающиеся колосья в поле» (как выражались греки) – то есть уничтожать возвышенные и предприимчивые умы. [29]
Более того, он даже был до некоторой степени заинтересован в том, чтобы унижать и разорять своих подданных или, по крайней мере, лишать их возможности приобретать богатство или досуг: и масштабные постройки Поликрата на Самосе, равно как и богатые дары Периандра храму в Олимпии, рассматриваются Аристотелем как меры, предпринятые этими деспотами с прямой целью занять время и истощить средства их подданных.
Не следует думать, что все они были в равной мере жестоки или беспринципны; но постоянное господство одного человека и одной семьи стало настолько оскорбительным для зависти тех, кто считал себя его равными, и для общего чувства народа, что репрессии и суровость оказывались неизбежными, независимо от первоначальных намерений.
И даже если узурпатор, вступив на этот путь насилия, испытывал отвращение к его продолжению, отречение оставляло его в крайней опасности, подвергая мести [p. 25] тех, кого он обидел, – если только он не мог прикрыться мантией религии и договориться с народом о том, чтобы стать жрецом какого-либо храма и божества; в этом случае его новый статус защищал его, подобно тому как тонзура и монастырь укрывали свергнутого правителя в Средние века. [31]
Некоторые из деспотов покровительствовали музыке и поэзии и старались завоевать расположение современников интеллектуального круга приглашениями и наградами; были и случаи, как с Писистратом и его сыновьями в Афинах, когда предпринималась попытка (аналогичная действиям Августа в Риме) примирить реальность личного всевластия с определенным уважением к прежним формам. [32]
В таких случаях управление, хотя и не свободное от преступлений, никогда не бывшее популярным и осуществлявшееся с помощью иностранных наемников, несомненно, было практически мягче. Но случаи такого рода были редки, и обычные для греческих деспотов максимы воплощались в Периандре, Кипселиде Коринфском – человеке суровом и грубом, но не лишенном ни энергии, ни ума.
Позиция греческого деспота, как она изображена у Платона, Ксенофонта и Аристотеля [33] и дополнительно подтверждается указаниями у Геродота, Фукидида и Исократа, хотя всегда вожделенна для честолюбцев, ясно обнаруживает «те душевные раны [стр. 27] и терзания», которыми внутренняя Эриния мстила общине за узурпатора, попиравшего её. Далекие от того, чтобы считать успех узурпации оправданием попытки (согласно теориям, ныне распространённым относительно Кромвеля и Бонапарта, которых часто порицают за то, что они устранили законного царя, но никогда – за то, что захватили ничем не обоснованную власть над народом), эти философы рассматривают деспота как одного из величайших преступников: человек, убивший его, становился предметом всеобщего почёта и награды, и добродетельный грек редко колебался бы спрятать меч в миртовых ветвях, подобно Гармодию и Аристогитону, для совершения этого деяния [34]. Положение, возвышавшееся над ограничениями и обязательствами, присущими гражданству, одновременно лишалось всякого права на общее сочувствие и защиту [35], так что деспоту было небезопасно лично посещать великие общеэллинские игры, на которых его колесница, возможно, могла бы одержать победу, и где теоры, или священные послы, которых он посылал как представителей своего эллинского города, появлялись с показной пышностью. Правление, осуществляемое в таких неблагоприятных обстоятельствах, не могло [стр. 28] быть иным, кроме как недолговечным. Хотя индивидуум, достаточно отважный, чтобы захватить его, часто находил способы сохранить его в течение своей жизни, но вид дожившего до старости деспота был редкостью, а передача его власти сыну – ещё большей [36].
Среди многочисленных пунктов разногласий в греческой политической морали эта глубокая антипатия к постоянному наследственному правителю выделялась как почти единодушное чувство, в котором одинаково сходились жажда превосходства, ощущаемая богатыми немногими, и любовь к равной свободе в сердцах многих. Она впервые возникла среди олигархий VII и VI веков до н. э., представляя полную противоположность тому ярко выраженному монархическому чувству, которое мы теперь читаем в «Илиаде»; и она была передана ими демократиям, которые возникли лишь в более поздний период. Конфликт между олигархией и деспотизмом предшествовал конфликту между олигархией и демократией, причём лакедемоняне активно выступали в обоих случаях в поддержку олигархического принципа: смешанное чувство страха и отвращения побудило их свергнуть деспотизм в нескольких городах Греции в VI веке до н. э., точно так же, как во время их борьбы с Афинами в [стр. 29] следующем веке они помогали олигархической партии везде, где могли, свергнуть демократию. И именно таким образом демагог-деспот этих ранних времён, выдвигая имя народа как предлог и используя оружие народа как средство достижения своих собственных честолюбивых замыслов, служил прелюдией к реальности демократии, которая проявилась в Афинах незадолго до Персидской войны как развитие семени, посеянного Солоном.
Насколько наша неполная информация позволяет нам проследить, ранние олигархии греческих государств, против которых боролись первые узурпирующие деспоты, содержали в себе гораздо более отталкивающие элементы неравенства и более пагубные барьеры между составными частями населения, чем олигархии более поздних времён. То, что было верно для Эллады в целом, было верно, хотя и в меньшей степени, для каждого отдельного сообщества, входившего в этот состав: каждое включало множество кланов, сословий, религиозных братств и местных или профессиональных групп, которые были очень слабо связаны между собой; и олигархия не была, как правительство, именуемое так в последующие времена, правлением богатых немногих над менее богатыми и бедными, но правлением особого сословия, иногда патрицианского, над всем остальным обществом. В таком случае подчинённые многие могли включать состоятельных и зажиточных собственников так же, как и правящие немногие; но эти подчинённые многие сами распадались на различные разнородные фракции, не испытывая искренней симпатии друг к другу, возможно, не вступая в браки между собой и не участвуя в одних и тех же религиозных обрядах. Сельское население, или деревенские жители, обрабатывавшие землю, в эти ранние времена, по-видимому, находились в тяжёлой зависимости от собственников, живших в укреплённом городе, и отличались своей собственной одеждой и привычками, которые часто навлекали на них недружелюбные прозвища. Эти городские собственники, по-видимому, часто составляли правящий класс в ранних греческих государствах, в то время как их подданные состояли из: 1. Зависимых земледельцев, живших в окружающей местности, обрабатывавших их земли. 2. Определённого числа мелких самостоятельных собственников (αὐτουργοὶ), чьи владения были слишком скудны, чтобы содержать кого-либо кроме себя самих, трудившихся своими руками на собственном участке – проживавших либо в деревне, либо в городе, в зависимости от обстоятельств [стр. 30]. 3. Тех, кто жил в городе, не имея земли, но занимаясь ремёслами, искусствами или торговлей.
Правящие собственники именовались Гаморами, или Геоморами, в зависимости от того, использовался ли дорический или ионический диалект для их описания, поскольку они встречались в государствах, принадлежавших к одной расе так же, как и к другой. Они, по-видимому, составляли замкнутое сословие, передавая свои привилегии детям, но не допуская новых членов к участию, – поскольку принцип, называемый греческими мыслителями тимократией, назначение политических прав и привилегий в соответствии с сравнительным имущественным положением, по-видимому, мало применялся в более ранние времена, если применялся вообще, и мы не знаем ни одного примера его ранее Солона. Так что, в результате естественного умножения семей и изменения имущественного положения, могли появиться многие отдельные гаморы, не владевшие землёй вовсе и, возможно, находившиеся в худшем положении, чем те мелкие свободные землевладельцы, которые не принадлежали к сословию; в то время как некоторые из этих последних свободных землевладельцев, а также некоторые ремесленники и торговцы в городах, могли одновременно увеличивать своё богатство и значимость. При такой политической классификации, отталкивающее неравенство которой усугублялось грубыми нравами и которая не обладала гибкостью, чтобы соответствовать изменениям в относительном положении отдельных жителей, недовольство и вспышки были неизбежны, и первый деспот, обычно богатый человек из лишённого прав класса, становился защитником и лидером недовольных [37]. Однако угнетающим ни было бы его правление, по крайней мере, это было угнетение, которое обрушивалось с неразборчивой суровостью на все части населения; и когда наступал час реакции против него или против его преемника, так что общий враг изгонялся объединёнными усилиями всех, было почти невозможно возродить прежнюю систему исключения и неравенства без некоторых значительных уступок.
Как общее правило, каждое греческое городское сообщество включало в своё население, независимо от купленных рабов, три вышеупомянутых элемента – крупных земельных собственников с сельскими зависимыми, мелких самостоятельных собственников и городских ремесленников, – причём эти три элемента повсеместно встречались в разных пропорциях. Но ход событий в Греции, начиная с VII века [стр. 31] до н. э., постоянно способствовал повышению сравнительной важности двух последних, в то время как в те ранние дни господство первого было на максимуме и изменялось только в сторону упадка. Военная сила большинства городов изначально находилась в руках крупных собственников и формировалась ими; она состояла из кавалерии, их самих и их слуг, с лошадьми, которых кормили на их землях. Таково было первоначальное олигархическое ополчение, каким оно было организовано в VII и VI веках до н. э. [38], в Халкиде и Эретрии на Эвбее, а также в Колофоне и других городах Ионии, и каким оно оставалось в Фессалии вплоть до IV века до н. э.; но постепенный подъём мелких собственников и городских ремесленников ознаменовался заменой кавалерии тяжеловооружённой пехотой; и ещё более важное изменение произошло, когда сопротивление Персии привело к значительному увеличению числа греческих военных кораблей, укомплектованных множеством моряков, живших скученно в приморских городах. Все изменения, которые мы можем проследить в греческих сообществах, стремились разрушить тесные и исключительные олигархии, с которых начинается наше первое историческое знание, и привести их либо к несколько более открытым олигархиям, охватывающим всех людей с определённым имущественным цензом, либо к демократиям. Но переход в обоих случаях обычно достигался через интерлюдию деспота.











