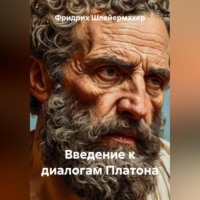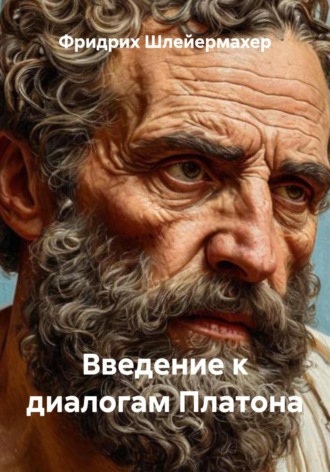
Полная версия
Введение к диалогам Платона
Если же, продолжая, мы будем придерживаться несколько ограниченного выбора важнейших произведений Платона, в которых лишь одних, как уже упоминалось, можно в совершенстве обнаружить основную нить этой связи, то некоторые из них выделяются среди всех прочих тем, что лишь они содержат объективное научное изложение; например, «Государство», «Тимей» и «Критий». Все свидетельства сходятся в том, чтобы отвести этим диалогам последнее место: как традиция, так и внутренний характер, хотя и в разной степени, – зрелость высшего порядка и глубокая старость; и даже то незавершённое состояние, которое они обнаруживают при рассмотрении их взаимосвязи. Но более всего этот вопрос решает сама суть дела; поскольку эти изложения опираются на исследования, pursued ранее, которыми в большей или меньшей степени заняты все диалоги; на природу познания вообще и философского знания в частности; и на применимость идеи науки к объектам, рассматриваемым в тех трудах, – к самому Человеку и к Природе.
Может статься, что между «Государством» и «Тимеем» и пролегал большой промежуток времени; но не следует предполагать, что Платон в этот промежуток составил какие-либо из оставшихся нам произведений, или же вообще любые, которые могли бы должным образом входить в связь с ними, за исключением «Законов», если их считать частью связанной серии, ибо мы обладаем прямым свидетельством относительно них, что они были написаны после книг о «Государстве». Но эти книги вместе с «Тимеем» и «Критием» образуют неразрывное целое, и если бы кто-то сказал, что «Государство», как должным образом представляющее этическую и политическую науку, хотя и написанное позднее тех диалогов, в которых рассматривается природа добродетели, её способность быть преподаваемой и идея блага, тем не менее могло быть очень легко написано раньше диалогов, непосредственно подготавливающих «Тимей», а именно тех, которые стремятся разрешить проблему причастности вещей идеям и рода знания, которым мы обладаем о природе; это было бы не только столь же неплатонично, согласно сказанному выше, как и всё что угодно, и предполагало бы грубейшее неведение тех подготовительных работ, в которых такое разделение предметов не обнаруживается; но из этого бы следовало, в частности, что «Политик», который является подготовительным к «Государству» в точно таком же отношении, как «Софист» к «Тимею», был написан раньше, и причем на значительный период, чем сам «Софист», который, тем не менее, в соединении с «Политиком» составляет лишь один диалог и является, по сути, его первой частью.
Но «Государство», как явно наиболее раннее из должным образом излагающих произведений, сразу же предполагает существование всех диалогов, не принадлежащих к этому классу, и это великолепное сооружение содержит, словно встроенные в его основание, краеугольные камни всех тех благородных арок, на которых оно покоится, и которые, прежде чем войти в то здание, чьей опорой они являются, если рассматривать их только в связи с самими собой и обозревать непосредственно в их собственной сфере, можно было бы, не будучи в состоянии угадать их предназначение, счесть бесцельными и несовершенными.
Следовательно, если «Государство» никак не допускает отделения от последующих за ним «Тимея» и «Крития», то всякий, кто стал бы возражать против занимаемого ими совместно места, должен предположить, что Платон вообще предпослал готовое изложение и лишь затем добавил элементарные исследования принципов. Но всё – как манера, в которой эти принципы вводятся в самих излагающих трудах, и в которой они исследуются в подготовительных, так и всякое возможное представление о духе Платона и стиле его мысли, – настолько сильно противоречит принятию такого обратного порядка, что едва ли нужно что-либо говорить по этому поводу; достаточно лишь спросить любого, какие диалоги он стал бы читать в этом порядке, и затем предоставить его собственным чувствам относительно обратного процесса и жалкой уловки, что исследования, ведущие назад к принципам, теперь по необходимости будут проводиться с лицами, ничего не знающими о предшествующих изложениях, чтобы отсечь все естественные отсылки к ним. Более того, вместо тех отсылок, которые он будет тщетно искать, другие отношения спонтанно навязывались бы повсюду сознанию любого, читающего в этом порядке, ясно указывая на противоположное расположение.
Надеюсь, никто не станет возражать, что в основном дело обстояло бы так же и с предлагаемым здесь порядком, поскольку согласно ему, предмет нередко предвосхищается мифически, который появляется лишь позднее в своей научной форме. Ибо сам факт, что это делается лишь мифически, не только точно согласуется с той главной целью Платона – побудить своих читателей к самостоятельному порождению идей, на признании которой покоится вся наша систематизация, но и является даже сам по себе ясным доказательством того, насколько твёрдо был убеждён Платон, что в философствовании, должным образом так называемом, необходимо начинать не с составной теории, а с простых принципов. Более того, всякий, кто глубже проникает в изучение Платона, тогда, и не ранее, осознает, как постепенное развитие и формирование платоновских мифов образуют один фундаментальный миф, равно как и переход многого мифического в научную форму, предоставляет новое доказательство в пользу правильности порядка, в котором всё это может быть воспринято наиболее ясно.
Таким образом, необходимость отводить последнее место конструктивным диалогам с любой точки зрения столь велика, что если бы и были обнаружены обоснованные исторические следы более раннего создания «Государства» до любого из тех подготовительных диалогов, – хотя таких до сих пор не найдено, и, что более важно, не будет найдено, – мы не могли бы избежать самого серьёзного противоречия с нашим суждением о Платоне, и мы были бы крайне смущены, как примирить этот случай неразумия с его обширным интеллектом.
Поскольку, таким образом, эти конструктивные диалоги несомненно являются последними, некоторые, с другой стороны, из оставшихся столь же явно выделяются как первые; например, продолжая придерживаться лишь первоклассных, – «Федр», «Протагор» и «Парменид». Ибо они противопоставляются первым, во-первых, свойственным им весьма своеобразным характером юношества, который легче всего распознать в первых двух, но даже в последнем не ускользнёт от внимательного глаза. Кроме того, обстоятельством, что как первыми предполагаются все остальные, так, напротив, повсеместно обнаруживаются многочисленные отсылки к этим последним как к ранее существовавшим; и даже взглянув только на отдельные мысли, они предстают в этих диалогах всё ещё как бы в первом блеске и неуклюжести ранней юности. И далее, эти три диалога в самом деле не подобны тем трём последним, сработаны в одно целое с определённой целью и с большим искусством, но, тем не менее, взаимно связаны теснейшим образом сходством во всей конструкции, едва ли когда-либо встречающимся вновь в той же степени, многими сходными мыслями и множеством отдельных намёков.
Но самое важное в них – это их внутреннее содержание, ибо в них развиваются первые проблески того, что является основой всего последующего: Логики как инструмента Философии, Идей как её собственного объекта, следовательно, возможности и условий познания. Эти диалоги, таким образом, в соединении с некоторыми примыкающими к ним диалогами меньшего разряда, образуют первую и, как бы, элементарную часть сочинений Платона.
Остальные занимают промежуток между этими и конструктивными, поскольку они постепенно рассматривают применимость тех принципов, различие между философским и обыденным знанием в их совместном применении к двум предложенным и реальным наукам, а именно – Этике и Физике. В этом отношении также они стоят посередине между конструктивными, в которых практическое и теоретическое полностью объединены, и элементарными, в которых оба разделены более, чем где-либо ещё у Платона.
Они, итак, образуют вторую часть, которая отличается особой и почти трудной искусственностью, как в конструкции отдельных диалогов, так и в их постепенной связи, и которую для различия можно было бы назвать косвенным методом, поскольку она начинается почти повсеместно с противопоставления противоположностей.
Таким образом, в этих трёх разделениях произведения Платона здесь и будут предложены читателю; так что в то время как каждая часть расположена согласно её очевидным характеристикам, диалоги также второго ранга занимают именно те места, которые, после должного рассмотрения каждого пункта, кажется, принадлежат им. Только должно быть позволено, что в отношении этого более тонкого расположения, не всё имеет равную достоверность, поскольку при его осуществлении необходимо учитывать две вещи: естественную последовательность развития идей и разнообразие отдельных намёков и отсылок.
Что касается произведений первого ранга, то первый из этих двух факторов вообще совершенно решающий и никогда не нарушается характером второго рода. Так, в первой части преобладающим предметом является развитие диалектического метода, и отсюда, очевидно, «Федр» – первый, а «Парменид» – последний, отчасти как самое совершенное изложение его, отчасти как переход ко второй части, потому что он начинает философствовать об отношении идей к действительным вещам. Во второй части преобладающим предметом является объяснение знания и процесса познания в действии, и во главе той части стоит «Теэтет» вне возможности ошибки, поскольку он берёт этот вопрос с его первого корня, «Софист» с присоединённым «Политиком» – в середине, в то время как «Федон» и «Филеб» завершают её как переходы к третьей части; первый – из-за предварительного наброска натурфилософии, второй – потому что в его обсуждении идеи Блага он начинает приближаться к совершенно конструктивному изложению и переходит к прямому методу.
Расположение побочных произведений второго класса не всегда вполне столь же решительно, поскольку, во-первых, некоторые являются лишь расширениями и дополнениями того же главного труда, как в первой части «Лахес» и «Хармид» по отношению к «Протагору», и в них, таким образом, мы можем только следовать определённым частным, и не всегда очень определённым, указаниям; и, во-вторых, некоторые из них могли бы быть переходами между теми же крупными диалогами, как во второй части «Горгий» вместе с «Меноном» и «Евтидемом» в совокупности являются прелюдиями, расходящимися от «Теэтета» к «Политику»: так что мы должны остаться удовлетворёнными накоплением вероятностей, собранных сколь возможно точно из всякого источника.
Третья часть не содержит иного подчинённого труда, кроме «Законов», к которым, несомненно, не только в связи с тем важным тройственным трудом, но и рассматриваемым самим по себе, мы должны дать это название, и сказать, что, хотя и обильно проникнутые философским содержанием, они всё же образуют лишь побочное произведение, хотя, благодаря их обширному охвату и подлинному платоновскому происхождению, они вполне вправе принадлежать к произведениям первого класса.
Наконец, что касается тех диалогов, которым с точки зрения принятой в расположении точки зрения мы отвели в совокупности третье место, хотя они, в пункте подлинности, имеют весьма различную ценность, они будут распределены в виде приложений ко всем трём разделам, в зависимости от того, отводят ли им исторические или внутренние свидетельства, поскольку они платоновские, вероятное место, или же в зависимости от того, с каким диалогом – этим или тем – сравнение особенно облегчает их критическое рассмотрение. Ибо они также должны иметь привилегию, принадлежащую им, – быть обеспеченными всем, что может быть сказано в кратком пространстве для их прояснения и приближения их дела к решению.
Часть первая.
I. Федр
Данный диалог обычно имеет подзаголовок «О прекрасном», а иногда именуется «О любви и о душе». Бесспорно, все подобные дополнительные наименования, встречающиеся у нескольких диалогов Платона, возникли, вероятно, случайно, из более поздних источников и принесли почти повсеместно неблагоприятный эффект, уводя читателя на ложный путь и тем самым способствуя распространению отчасти чрезмерно ограниченных, отчасти вовсе ложных взглядов на цель философа и смысл произведения. Это в особенности относится к добавочным заголовкам данного диалога, которые почти повсеместно понимались как указание на его истинную тему, переводились и использовались в цитатах, хотя любовь и прекрасное появляются лишь в одной части работы и потому не могли, для непредвзятого человека, стать её подлинным и надлежащим предметом. Однако устранение этого обманчивого заголовка едва ли достаточно для возвращения читателя в то первоначальное состояние свободы от предрассудков; поэтому как по этой причине, так и из желания как можно яснее раскрыть платоновский метод на примере первого диалога, данное введение должно претендовать на несколько непропорциональную протяжённость.
Весь диалог, за исключением богато украшенного введения, состоит из двух частей, примерно равных по объёму, но в остальном, даже на первый взгляд, весьма различных друг от друга. Ибо первая из них содержит три речи о любви: одну Лисия в защиту тезиса, что юноша должен оказывать благосклонность скорее хладнокровному и бесстрастному влюблённому, нежели восхищённому и страстному; и две Сократа – первая представляет собой дополнительную речь в том же ключе, в каком подобные речи были обычны в судах для защиты того же дела, что и предыдущая; другая же, напротив, является контрречью в защиту страстного поклонника, так сурово обвинённого в первой. Вторая часть, если предварительно оставить её в максимально неопределённом виде, содержит несколько замечаний, введённых по случаю этих речей, о тогдашнем состоянии искусства красноречия вместе с указаниями на его подлинные принципы. И от этих сугубо технических исследований никакого возврата к предмету, рассмотренному в речах, уже не происходит. Теперь даже из этого краткого наброска любой читатель сразу увидит, что не только этот частный эротический вопрос не мог быть в уме Платона главным предметом, но и даже любовь вообще. Ибо в обоих случаях это прекрасное произведение, созданное, как очевидно, с величайшим тщанием, предстало бы обезображенным самым отталкивающим образом, совершенно противореча максиме о том, что оно должно быть сформировано подобно живому существу, имеющему тело, соразмерное душе, с частями также в должной пропорции. Ибо вся вторая половина оказалась бы тогда не более чем странно прикреплённым придатком, и даже не сносно подогнанным, который сам по себе, и особенно своим положением, не мог произвести иного эффекта, кроме как неизбежно отвлекать внимание как можно дальше от основного предмета. Более того, если предположить последнее, то сам предмет был бы завершён ещё весьма посредственно. Ибо несмотря на то, что в двух первых речах отношение влюблённых рассматривается лишь с точки зрения удовольствия и выгоды – в последней же, напротив, этически и мистически; и это раздельное рассмотрение могло бы так легко привести к истинной точке спора относительно природы любви и её высшей сущности – несмотря на это, в последующей критике речей это никак не учитывается, и ничего не делается для примирения противоположных взглядов. Соответственно, предмет, столь небрежно трактуемый, не мог быть надлежащей основой произведения, и оставалось лишь возложить всю ценность диалога на миф в третьей речи, который один лишь в определённой степени распространяется на вопрос любви – тот миф, который из всего, что представляет диалог, является наиболее прославленным и знаменитым – вместе со сказанным в связи с ним о высокой важности и великом влиянии прекрасного. И тогда мы будем вынуждены объяснять всё остальное как отступление, странно запутанное и бессмысленно собранное; если, то есть, мы исходим из содержания тех трёх речей, чтобы постичь целое.
Если же, напротив, мы сосредоточимся на второй части, вместо того чтобы столь бесполезно мучиться над первой, результат представляется следующим: поскольку во второй части рассматривается Искусство [красноречия], нам следует анализировать речи первой части скорее с точки зрения манеры изложения и их ценности как произведений искусства, нежели обсуждаемого предмета; из чего проистекает попытка, противоположная первоначальной, – сосредоточить главный объект всего произведения в том, что составляет предмет второй части, а именно – в более правильных представлениях об истинной природе искусства красноречия. Этот взгляд, уже принятый несколькими исследователями, подкрепляется – по крайней мере, наполовину серьёзным – заявлением Сократа о том, что он приводит речи лишь в качестве примеров и что, за исключением использованного правильного метода, всё остальное в них следует воспринимать лишь как шутку. Согласно этому, нам с самого начала следовало бы уделять особое внимание тому, что в этих речах является парадигматическим, и мы должны стремиться полностью понять все существующие между ними и теорией, изложенной во второй части, взаимосвязи, которая состоит в основном из трёх следующих пунктов.
Во-первых, Платон пытается совершенно ясно показать, в чём состоит подлинная задача искусства красноречия. Ибо, как явственно видно из правил, приведённых во второй части, и изобретений наиболее знаменитых риторов древнейшей школы, это искусство трактовалось тогдашними мастерами и учителями исключительно эмпирически. Затмить рассудок слушателей софистическими средствами и затем, в отдельных пассажах, эмоционально возбудить их умы – такова была вся их цель; подобным же образом крайне скудное и однообразное наставление в композиции, с бесполезно накопленными подразделениями и техническими терминами, и некоторые максимы относительно использования языка, ведущие в лучшем случае лишь к гармонии и полноте звучания или к созданию яркого и блестящего эффекта, – составляли всю их тайну. И таким образом искусство было полностью лишено внутреннего содержания. Всё это, что до сих пор принималось за само искусство, Платон низводит до уровня технической сноровки и, обнажая принцип софистических риторов, что желающему убеждать не нужно самому знать истинное и правильное, он показывает, что для действительного достижения убеждения, то есть для того, чтобы, так сказать, принудить других к определённым мыслям и суждениям, – если уж это делать, пусть даже безотносительно к истине, но с той степенью достоверности, которая одна лишь может претендовать на имя искусства, – он показывает, говорю я, что необходимо умение обманывать и разоблачать обман, искусство логической видимости, которое само может основываться лишь на научном методе подведения сходных понятий под высшие; и подобное же знание различия понятий, что, следовательно, диалектика должна быть истинным основанием риторики, и что лишь то, что связано с её принципами, подлинно принадлежит искусству.
С этим тесно связана вторая позиция. Все эти технические приёмы, говорит он, которые выдавались за искусство, были заимствованы лишь из практики судебных палат и народных собраний и относились к ним, так что их ничтожная ценность должна была немедленно обнаружиться, даже если бы их рассматривали лишь как частные виды, а не как всю область искусства. Поэтому Платон утверждает, что искусство красноречия универсально едино не только в этих местах, но также в письменных произведениях и устных дискуссиях любого рода, как научных, так и гражданских, и даже в обыденном употреблении общественной жизни. Посредством этого расширения и утверждения её области, ныне объемлющей всякий вид философской коммуникации, за её прежде слишком узко очерченные пределы, с одной стороны, риторика очищается от многих упрёков и вынуждена искать свои принципы для всех этих различных ветвей гораздо глубже, а с другой – формирующийся мастер раскрывает себя в процессе, в то время как великий архетип, символизирующий вид, который он почти создал, реет перед ним в его уме, и он подчиняется строгим условиям, которых, согласно общему взгляду, мог бы избежать.
Но так как этим самым расширением риторика в том смысле, в каком слово употреблялось до сих пор, по сути уничтожается, Платон заранее, пророчески, так сказать, очищает себя от обвинения в размывании её и растворении в неопределённом, – обвинения, которое, по крайней мере среди новых исследователей, легко могло бы быть предъявлено ему теми, кто привносит в это исследование обычное неверное представление о ненависти Платона к этому искусству вообще. И делает он это лучше всего тем утверждением своих взглядов, согласно которому он устанавливает риторику, несмотря на её признанную зависимость от диалектики, и даже благодаря ей, как искусство в высшем смысле. Ибо истинное искусство, по его мнению, есть не что иное, как та практика, для которой, в свою очередь, может быть создана истинная наука или, как обычно называют её наши соотечественники, теория: именно так Платон отличает искусство от безыскусной сноровки. Такая наука может возникнуть лишь тогда, когда классифицированное многообразие, диалектически выставленное как проистекающее из центрального понятия искусства, связано систематическим и совершенно исчерпывающим образом с тем, что вытекает из всей совокупности средств и объектов. Соответственно, он требует от искусства красноречия, чтобы оно перечислило все различные виды речей и закрепило каждый из них за всеми различными видами умов, дабы таким образом определить, как каждая речь при данных обстоятельствах может и должна быть сформирована согласно правилам искусства.
С этой, таким образом занятой, точки зрения многое в данном сочинении может быть теперь уяснено вернее. Прежде всего становится очевидной необходимость примеров – по крайней мере для живого произведения, подобного платоновскому, – и этими примерами могли быть лишь совершенно или почти совершенно законченные речи. Отсюда естественно вытекает уместность их расположения перед теоретической частью и необходимость художественного вымысла для их введения. Но чтобы облегчить сравнение, Платону потребовался пример общераспространённого нелогического метода не менее, чем пример собственного, а после последнего ему вновь надлежало достигать целей противоположной природы, если он желал показать влияние своеобразной тенденции той эпохи на всё рассуждение в целом и одновременно создать ту логическую видимость, которая незаметно ведёт от одного противоречия к другому. По сей причине, полагаем, едва ли кто пожелает упустить из виду первую из двух сократовских речей в пользу второй, ибо лишь при самом точном сопоставлении обе могут быть поняты правильно. Таким образом, сделается очевидным и совершенно различный тон каждой из них, соответствующий её цели. В одной мы видим пронизывающую всё речь направленность на рассудок и на трезвую мирскую рассудительность; выражение же, несмотря на всё ритмическое нагромождение слов, сохраняемое прозрачным и холодным – именно так, несомненно, должно воздействовать на ум, который намереваются привести к презрению страсти путём обращения его взора на отдалённое будущее; в другой же, напротив, находим вдохновенный тон, возведение прекрасного в равный ранг с высшими нравственными идеями и тесную связь его с Вечным и Бесконечным; способ, коим испрашивается снисхождение к чувственной системе, однако без утаивания того, что сие есть лишь снисхождение; именно так, с попущением фантазии, должно воздействовать на юный и благородный ум, который, подобно уму взрослеющего эллинского отрока, свежо исходит из школы поэтического искусства. Истинно, едва ли можно было лучше доказать, чем сие сделано сим сопоставлением, сколь необходимо при каждом случае учитывать, каким образом данный ум может быть приведён к данному предмету. Подобным же образом с сей точки зрения естественным покажется, что примеры взяты из предмета, относящегося к философии, ибо в предмете сего рода Платон чувствовал себя наипаче на собственной почве, и потому, что сие было в то же время необходимо как для того, чтобы практически, так сказать, подтвердить теорию распространения искусства красноречия за пределы круга политических и гражданских дел, так и чтобы предложить подобающее правило для сравнения между той более узкою областью и сею, более обширною, – сферою создания блистательных философских произведений.
Если же Платон решил исходить из реально данного примера, притом такого, который уже был подчинён законам риторики, то, не рискуя преувеличить объём его познаний и чтения в ту пору, можно сказать, что выбор его должен был быть крайне ограничен. Ибо, кроме декламаций софиста, которые были, в самом деле, столь несостоятельны, что для Платона с такими воззрениями и принципами ставить себя в сравнение с ними было бы недостойно, и которые, к тому же, по мере того как риторика и софистика начали разделяться, всё более утрачивали свою значимость с сей точки зрения, ему едва ли оставалось избрать что-либо иное, кроме сих эротических риторических опытов Лисия, который, к тому же, в силу обладания в некоторой степени основополагающими принципами, был противником более достойным, нежели любой оратор из поэтизирующей школы Горгия.