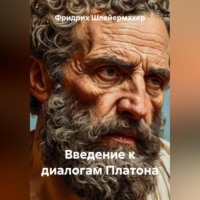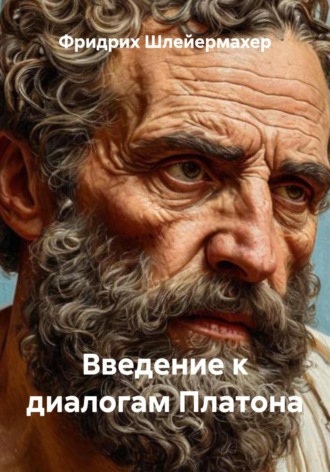
Полная версия
Введение к диалогам Платона
Но именно здесь и должна поразить каждого недостаточность даже сего взгляда. Ибо зачем Платону было желать ограничивать себя таким самовольно наложенным законом, да ещё и совершенно вопреки собственному методу? Или разве не обычно для него вкладывать в уста собеседников то, чего они никогда не изрекали, с единственным условием, чтобы сие было им свойственно и уместно? Что же, следовательно, мешало ему составить речь от чьего угодно имени, если только он не находил под рукою таковой на предмет, к коему питал не только особый интерес, но который также пребывал как раз в теснейшей связи с непосредственною целью сего диалога? Ибо то, что любовь есть, в самом деле, предмет нравственный, и то, что в методе, коим она здесь трактуется, лежит в основе нечто вроде апологии Сократа, обвинённого в ней в смысле недостойном, – сие было бы, пожалуй, основанием достаточным для введения её в качестве одного из тех подчинённых пунктов второго разряда, кои встречаются здесь нередко вообще во введении, в переходах и в различных намёках; но когда нечто стоит в таком отношении к целому, как сии речи, тогда на нас возлагается обязанность открыть необходимую связь между ним и главною идеею целого. Если бы главная идея здесь была не чем иным, как исправлением понятия о риторике, то в таком случае любовь и красота, составляющие предметное содержание сих речей, были бы, в отношении сего пункта, совершенно случайными. Но в том-то и состоит метод Платона, и в том – торжество его гениального ума, что в великих и богато отделанных формах его ничто не лишено своей пользы и что он не предоставляет ничего на волю случая или слепого произвола, но у него всё соразмерно и содействует согласно объёму его предметов. И как могли бы мы упустить сие понимание совсем в сем месте, превыше всех прочих, где принципы, им приводимые, излагаются наияснейшим образом?
Таким образом, становится сразу очевидным, что сие ещё не есть воззрение правильное и не взятое с той точки, с которой одной только и можно обозреть целое и каждую частность увидеть в её надлежащей форме и положении, но что мы должны отыскать иное, связывающее всё ещё точнее. Однако под рукой имеются и иные причины, кои не позволили бы нам остановиться здесь. Ведь вероятно ли, чтобы главною целью Платона могло быть составление трактата о технической стороне риторики? И согласовалось бы сие каким-либо образом с прочими целями его как писателя? Или же, напротив, не бывает ли так, что ничего подобного более не встречается, и «Федр» оказался бы тогда в изоляции такою, в какой менее важное произведение сего мастера едва ли могло бы быть допущено? Более того, даже во второй части, хотя именно с неё и берётся точка опоры для сего взгляда, многое остаётся необъяснимым и странным в предположении, что она правильна. Ибо сия вторая часть не только пространно распространяется о любви и красоте как предмете первой, но и о форме той части и о риторике вообще. Всё сказанное о риторике внезапно распространяется также на поэзию и политику, ибо они тоже суть искусства, и ни для кого не может ускользнуть, что, собственно говоря, даже сама риторика выставлена и трактуется лишь как пример, и о ней сказано почти то же, что и о произнесённых речах, что, оставляя в стороне высшие законы, кои должны быть в ней явлены, всё её действие и занятие есть не что иное, как детская игра.
Таким образом, мы переходим от внешнего к внутреннему, и поскольку сие последнее само в свою очередь вскоре становится внешним, мы продвигаемся всё далее, вплоть до самой сокровенной души всего произведения, которая есть не что иное, как внутренний дух тех высших законов, то есть искусство свободной мысли и сообщающей коммуникации, или диалектика. Для коей всё остальное в сем диалоге есть лишь подготовка, дабы вызвать её открытие сократовским методом через проявление её духа в хорошо известной частности, притом такой, в коей исключительно научная форма была отчасти общепризнанна, отчасти легко показуема. Ныне Платон намерен не только прославить сие искусство как корень всякой иной отрасли, к коей сие имя может быть применено, но, в то время как во всех прочих искусствах мы, подлинно, должны признавать его, оно само должно явиться для каждого как нечто гораздо высшее и совершенно божественное, чему надлежит учиться и что надлежит практиковать отнюдь не ради них, но ради него самого и ради бытия божественного. Первоначальный объект диалектики обретается в идеях, кои он поэтому и описывает здесь со всем жаром первой любви, и так именно философию прославляет здесь Платон, самостоятельно и всецело, как высший из всех объектов и как основание всего достойного и прекрасного, и за которую он может торжествующе требовать, чтобы притязания её на сии титулы были всеобще признаны. И именно потому, что философия всецело является здесь не только как состояние внутреннее, но, в соответствии со своею природою, как распространяющая и сообщающая себя, необходимо довести до сознания и явить импульс, который изнутри выталкивает её вовне и который есть не что иное, как любовь подлинная и божественная, возносящая себя над всякою иною, возникающею и proceeding на каком-либо понятии выгоды, подобно тому как философия по природе своей превосходит искусства подчинённые, кои довольствуются игрою либо с удовольствием, либо с пользою. Ибо сколь ни много должно быть достижение объекта того импульса действием искусства и суждения, располагающего его частности, всё же сам импульс является как нечто изначально сущее и вечно действующее в уме человека законченного и совершенного, ищущее объект свой извне, следовательно, как страсть и вдохновение божественное. Отсюда, следовательно, все проблемы разрешаются, и сие утверждает себя как единство подлинное произведения – выявляя всё, оживляя и связывая все части.
Данный объект, рассматриваемый в связи с манерой его подачи, неоспоримо закрепляет за «Федром» первое место среди произведений Платона. К этому выводу нас, более того, незамедлительно приводит наблюдение, что в данном изложении философии сознание философского импульса и метода гораздо глубже и мощнее, чем сознание философской материи, которая, таким образом, предстает лишь в мифической форме, как если бы, с одной стороны, она еще не созрела для логического изложения, а с другой – была в определенной степени подавлена этим преобладающим сознанием. Именно такое состояние естественным образом должно было стать первоначальным для достойного мыслящего ученика Сократа, уже овладевшего искусством, под влиянием метода обучения, практикуемого этим философом. Ибо эти два элемента – импульс и метод – присутствовали во всех его беседах как постоянные и неизменные составляющие, которые поэтому глубже всего запечатлевались в сознании, в то время как касательно материи он лишь затрагивал частные вопросы в конкретных деталях, без отбора или связной цели.
В более поздний период, однако, Платон, по мере того как объекты философии раскрывались ему яснее, а он полнее применял метод во всех своих произведениях и возвеличивал его, воздерживался бы от того, чтобы делать его столь обширным стержнем композиции, как он это сделал здесь. Более того, чрезмерное, почти шумное и торжествующее ликование, которое само по себе достаточно ясно указывает на обретение вновь приобретенного блага, относится исключительно к открытию первоначальных принципов, и «Федр» в меньшей степени, чем любой другой диалог, демонстрирует великую и уже обретенную легкость в применении данного метода.
Кроме того, он различными способами отсылает к поэтическим опытам Платона, предшествовавшим его философской деятельности. Всякий, кто надлежащим образом ценит Платона, не склонится к мысли, что тот сочинял стихи лишь в легкомысленной юности, но скорее воспринимал это серьезно и уже в ранние времена, основываясь на принципах искусства, осмыслял все воздействия на человеческое сознание. Таким образом, сила, которой обладал Сократ – убеждать и влиять на разум при всей кажущейся безыскусности его аргументов, – должна была представляться Платону непревзойденным высшим искусством, наполняя его восхищением и любовью. Это, в таких обстоятельствах и в таком сознании, по природе склонном благоприятствовать идее единства обоих, естественно выразилось в отнесении философии к искусству, процесс которого одновременно содержал объяснение и оправдание его перехода от последнего к первому.
И далее, его непосредственный выбор риторики, которая не была его собственным искусством, объясняется тем, что она, в большей степени чем поэзия, направлена на убеждение, и потому что он мог сравнить то, чего Сократ достигал в ней посредством науки диалектики, лишь с тем, что софисты и риторы пытались достичь чистой эмпирикой.
Но если такие доводы, сколь бы точно они ни совпадали с единственным истинным центром целого, всё же покажутся кому-либо недостаточными для определения времени создания произведения, пусть он обратит внимание на бесчисленные свидетельства общей юношеской природы труда. Они явственно проступают во всём его стиле и колорите. Здесь заметна склонность к эпидейктическому – к демонстрации убедительности и превосходства; ибо не только сначала оппонент с лёгкостью побеждается, а затем каждое последующее положение превосходит предыдущее, но и сама философия, дабы придать ей блеск и вызвать наше восхищение, восхваляется главным образом за то, что оставляет далеко позади то, что люди чаще всего хвалят и чем восхищаются. Отчасти это обусловлено предметом; но у Платона предмет и исполнение столь необходимо следуют друг из друга, и дух произведения насквозь юношеский, в котором этот общий замысел применяется и непрерывно развивается через восходящие ступени, пока не достигает точки крайности.
Обратите внимание прежде всего на вторую речь – ту, что уничтожает Лисия, затем на ответную речь, с ещё большей силой сокрушающую две предшествующие; обратите внимание, как в них Платон эффектно присваивает себе великий триумф софистов – защиту противоположных тезисов один за другим – и, вдобавок, незамедлительно демонстрирует насыщенность содержания; на то, что каждый противоречивый элемент презирается в отношении самой речи и лишь предпосылается в диалогах как введение к ней; затем на апологическую уверенность, которая даже не пытается отречься от имени Эрота в устах Сократа или заменить его на более мягкое, но даже в молитве о здоровье и счастье завершается любовью.
Далее, исследование, которое объявляет самое прекрасное в этой речи не более чем детской забавой и отвергает её вместе с первой, как если бы это было ничто; насмешливый вызов Лисию; забавная, всеобъемлющая и почти сбивающая с толку полемика против ранних риторов, безжалостно высмеивающая даже то доброе, что есть в их трудах, поскольку оно не проистекает из верных принципов – и это в таком объёме, которого он едва ли счёл бы их достойными в более поздний период и который сам по себе несколько выставляют напоказ эрудицию; наконец, как кульминация этой эпидейксиса, возвышенное презрение, подлинно сократовское, ко всякому писанию и всякому ораторскому искусству.
Даже во внешней форме этот юношеский дух выдаёт себя в постоянно возобновляющейся пышности побочных тем, вводимых на каждой остановке; в оживлённости диалога, которую нельзя вполне защитить от обвинений в натужности и аффектации; наконец, также в несколько неумеренном внесении религиозного элемента, и кое-где даже в некоторой неуклюжести переходов, не в речах, конечно, но в диалогической половине.
Более того, с данной точкой зрения точно совпадают исторические указания в самом произведении, не оставляющие сомнений относительно времени, в котором, так сказать, разворачивается диалог. Действительно, было бы бесполезно пытаться извлечь из них какие-либо доказательства, и, за исключением нескольких случаев, когда невозможность создания произведения ранее определенного периода самоочевидна, было бы folly строить какие-либо выводы на исторических основаниях относительно времени написания любого произведения Платона, если мы примем утверждение Афинея о том, что Федр вообще не мог быть современником Сократа.
Ибо какой писатель когда-либо позволял себе такую вольность, если только он не был тем, для кого ничто не казалось невероятным и никакая неподобающая вещь – слишком большой? Не то чтобы Платона следовало связывать строгой исторической точностью, или как если бы в его произведениях не встречается никаких нарушений хронологии. Напротив, вполне возможно, что в диалогах, перенесенных в период, довольно удаленный от времени их создания, он отступает от своих гипотетических оснований и оставляет их – будь то по ошибке памяти и небрежности, или потому, что он сознательно жертвует исторической правдой ради определенного эффекта. Но это одно, а совсем другое – вводить в качестве единственных действующих лиц двух людей, которые, как всем известно, даже не существовали в одно и то же время, как должно быть в данном случае.
И что могло побудить Платона к такому шагу? Ибо одно обстоятельство в «Федре» тогда не имело бы ценности для диалога, так как среди молодых афинян не могло быть недостатка в современнике-соратнике и почитателе Лисия, и любой, кому он здесь передал бы характер Федра, мог бы также произнести речь, сказанную им в «Пире». Более того, какая причина могла быть для выведения этого же невозможного собеседника в «Протагоре», где он, как безмолвный зритель, лишь увеличивает скопившуюся толпу? Поэтому мы не стали бы принимать это даже на слово Афинея, если только он не сообщит нам некоторые из своих более точных источников информации об этом Федре, и столь недоказанное обвинение не должно мешать нам рассматривать наш диалог в дальнейших рассуждениях так, как если бы из содержащихся в нем исторических связей можно было делать выводы.
С учетом вышесказанного добавим, что два очень известных лица упоминаются там весьма решительным образом – а именно Лисий и Исократ. Лисий в 1-й год 84-й Олимпиады (444 г. до н.э.) в возрасте пятнадцати лет отправился в Фурии и вернулся, как сообщает Дионисий, сорока семи лет, в первый год девяносто второй Олимпиады (412/11 г. до н.э.), с которого периода и начинается его великая слава как оратора. Если мы допустим, что прошло еще несколько лет, прежде чем Федр мог сказать о нем как о чем-то общепризнанном, что он пишет лучше всех своих современников, то этот диалог не мог происходить ранее девяносто третьей Олимпиады (408/7 – 405/4 гг. до н.э.). И конечно, не позднее, ибо Лисий едва ли мог быть старше пятидесяти лет, чтобы писать и рассуждать о любовных делах без стыда, так же как Исократ, на двадцать два года моложе, едва ли мог быть намного старше тридцати, чтобы быть представленным как молодой человек.
К этому можно добавить упоминание Полемарха как живого человека, который, согласно Плутарху и автору «Жизнеописаний десяти ораторов», погиб во время анархии (404/3 г. до н.э.). Все это, действительно, указывает непосредственно лишь на время, в которое мог происходить диалог: но при более внимательном рассмотрении мы получаем из этих оснований дальнейший результат, что он не мог быть написан намного позже; в этом случае самоочевидно, что Платон, который в то время недавно стал учеником Сократа, еще не мог написать ничего подобного, но что «Федр» был первым порывом вдохновения, почерпнутого у Сократа.
Во-первых, собственное чувство каждого подскажет ему, что манера, в которой Платон представляет речь Лисия, могла иметь должный эффект только пока эта публикация была свежа в памяти читателей «Федра», и что при противоположном предположении в этом была бы не только некоторая неловкость, но даже трудно было бы представить, как Платон мог с этим столкнуться. Более того, если мы далее примем во внимание, как сурово он обходится с Лисием, он подверг бы себя серьезному обвинению в несправедливости, если бы в более поздний период в своей критике на него взял за основу старую и почти забытую вещь, давно вытесненную многими гораздо более совершенными.
Кроме того, с какой целью упоминание о переходе Полемарха к философии? Ибо, поскольку он умер вскоре после этого, он едва ли мог служить ярким примером для периода более позднего, чем тот, который мы установили. Но что главным образом говорит в пользу создания диалога одновременно с теми событиями, так это пророчество относительно Исократа, которое появляется ближе к концу диалога и которое невозможно могло быть высказано задним числом, а именно что он намного превзойдет всех риторов доныне и поднимется к высшему роду сочинений.
Ибо предположим, что последующие достижения этого оратора оправдали ожидания Платона, в этом случае, мягко выражаясь, было бы нелепо заставлять это быть предсказанным в гораздо более ранний период; но если Исократ не оправдал эти ожидания, Платон в таком случае сознательно и намеренно либо рассказал бы ложное пророчество Сократа, либо ложно приписал ему такое.
Но это пророчество, по-видимому, отсылает к идее, которая в нескольких местах этого диалога почти выражена, что Платон охотно реализовал бы, предсказав ее существование, афинскую школу красноречия на принципах логики – в противовес той испорченной и развращающей сицилийской школе; и что он хотел, если возможно, привлечь поддержку Лисия, который рассматривается как стоящий между двумя. Если мы рассмотрим с этой точки зрения манеру, в которой здесь выведены Анаксагор, Перикл и Гиппократ, это предположение может получить поддержку, и даже такую мысль, по крайней мере, в той части, которая касается интересов его родного города, можно приписать только юности Платона в то время.
В противовес всем этим аргументам, которые с разных сторон сходятся в одном центре, доводы Теннемана в пользу более позднего периода создания «Федра» – едва ли не последнего в писательской деятельности Платона – имеют малый вес. Что касается египетского сказания, здесь действительно нет необходимости, подобно Асту, предполагать использование пословичного оборота; сам Платон дает нам довольно ясный намек на то, что эта история была сочинена им самим, и для этого ему вовсе не обязательно было посещать Египет – так же, как он не привозил из Фракии упомянутый в «Хармиде» фракийский лист с заключенной в нем философией.
Что касается второго основания – сходства между сказанным в этом диалоге о влиянии письменности и тем, что встречается с той же целью в седьмом из платоновских писем, – кажется, сам Теннеман не считал, что выражения в «Федре» относятся к тому же частному случаю, который лежит в основе рассуждений в том письме, и, следовательно, не утверждал, что «Федр» был написан только после посещения Платоном младшего Дионисия. Он лишь полагает в целом, что и здесь неприятные обстоятельства, связанные с письменностью, должны были предшествовать таким выражениям, как мы находим в «Федре». Но об этом нет никаких следов; и как бы там ни было с тем письмом, принижение письменности по сравнению с истинным и живым философским общением само по себе вполне понятно как оправдание воздержания Сократа от писания и как чувство, вдохновленное тем методом обучения, который Платон в то время отчаялся когда-либо воспроизвести в письменных трактатах, хотя впоследствии научился это делать и не закончил с верой в полную неcommunicability философии в той же степени, хотя, как мы видим, он с самого начала хорошо понимал, что ее нельзя изучить исторически.
Но, возможно, этот автор на самом деле придерживается ещё одного основания, стоящего за уже приведённым: а именно, что в «Федре» так много платоновского, в то время как он склонен считать ранними только те произведения, которые непосредственно связаны с Сократом и в которых ещё отсутствует своеобразный стиль Платона, полагая, что столь обширный труд и с таким предметом подходит только для более поздних времён. Однако каждый умелый и самоиспытанный человек, несомненно, признает, что истинное философствование начинается не с какой-либо отдельной точки, а с дыхания целого, и что личный характер писателя, равно как и особенности его образа мыслей и взглядов на вещи в целом, должны обнаруживаться в самом начале действительно свободного и независимого выражения его чувств. Почему же тогда сообщение платоновской философии не могло начаться таким образом? Или, если мы поверим, что Платон не только в течение определенного периода был просто пассивным учеником, но и писал как таковой, тогда необходимо было бы указать на четкое разделение между этими двумя противоположными классами его произведений – задача, которую никто не смог бы выполнить.
Ибо существование в «Федре» зародышей почти всей его системы вряд ли можно отрицать; но тогда их неразвитость столь же очевидна, и в то же время их несовершенство так явно выдает себя в том прямом методе ведения диалога, который составляет особое превосходство Платона на протяжении непрерывного и непрерываемого пути второй половины, что можно ожидать, что умелые читатели согласятся с положением, которое следует отвести этому диалогу.
Среди приведённых здесь оснований для такой атрибуции та старая традиция, которая выделяла «Федра» как первое произведение Платона, – что, учитывая важность предмета, не лишено оснований, – не заняла места. Ибо Диоген и Олимпиодор относят происхождение этой традиции к некомпетентным свидетельствам; напротив, то, что говорят эти авторы, скорее способствует гипотезе, что такая атрибуция была предположена уже в древности, чтобы разрушить несколько возражений, выдвинутых против этого диалога: например, соблюдены ли в нём пределы чистой прозы или действительно всё исследование не оправдано только с учётом молодости писателя. Очевидно, что подразумевается под последним – а именно, эротический вопрос; но в первом утверждении сходится один из самых видных мастеров античности, и отнюдь не мягким образом – я имею в виду Дионисия.
Как обстоит дело с этим пунктом, лучше всего выяснится из того, что нам ещё предстоит сделать: а именно, добавить некоторые предварительные разъяснения относительно частных деталей произведения.
Введение хвалит Дионисий, и, не находя ничего предосудительного в кусочке естественного описания в нём, он считает его примером того простонародного и умеренного стиля, который, как особая область школы Сократа, принадлежит, по его мнению, Платону в даже выдающейся степени. Первую речь, которую Федр читает Сократу, он явно признаёт произведением прославленного оратора – пункт, в котором никто не усомнится, хотя один английский филолог и наложил запрет на веру в это. Если бы до нас дошло больше из собрания эротических сочинений Лисия, мы были бы лучше способны судить об отношении этой речи к другим произведениям того писателя с точки зрения искусства и характера, проявленных в ней. Однако здесь она не заслуживает особой похвалы сама по себе; ибо единообразие в построении отдельных положений, равно как и способ соединения их, едва ли могут быть переданы в переводе в том порочном объёме, в каком они существуют, а неопределённость выражения, почти всегда допускающая несколько значений, является камнем преткновения для интерпретатора. Если предположить, что другие были похожи на эту, то вся затея была попыткой – не бездумно предпринятой, но совершенно неуспешной – к расширению в Искусстве Красноречия.
Затем первая сократова речь развивает принцип Лисия более тщательно и ясно проработанным. Здесь Дионисий сразу же порицает предшествующее ей обращение к Музам, полагая, что оно обрушивается внезапно, как буря и гроза, с ясного неба, разрушая чистую прозу – безвкусный кусок стихоплётства. И Дионисий добавляет, что Платон вскоре сам намерен признать, что это образец громко звучащих фраз и дифирамбов, с большой пышностью слов и малым смыслом, когда он говорит Федру, что тому не следует ничему удивляться в последующем, ибо то, что он сейчас изрекает, недалеко от дифирамбов.
Что касается того призывания Муз, мы могли бы, пожалуй, допустить нарочитость в игривых словообразованиях в нём; но, глядя на построение в целом, вряд ли кто-то отказал бы ему в праве называться прозой. Напротив, удивление, которое Платон выражает по поводу дифирамбической природы своих предложений, несомненно, не предназначалось выражать какое-либо осуждение самому себе. Ибо любой, кто обратит внимание на отрывок, в котором это встречается, легко обнаружит, что оно относится не к какому-либо виду поэтического вдохновения; но что Платон лишь намеревался, конечно, не в свой ущерб, привлечь внимание к различию между его собственным ритмом и ритмом Лисия. Ибо у последнего все периоды выстроены с монотонной одинаковостью, один похож на другой, расчленённый на антитезы; и вся речь пронизана одной и той же чрезвычайно вялой мелодией. У Платона же, напротив, ритм находится в постепенном нарастании, так что он начинает, где его идеи обдуманы, с кратких положений в быстром темпе, и по мере продвижения речи от общего к частному, предложения также становятся более развёрнутыми и членораздельными; пока, наконец, оратор, достигнув кульминационной точки, не парит вокруг неё и, словно, задерживается в медленно вращающемся периоде.
Тем не менее, строение этих периодов представляется, по крайней мере нам, совершенно прозаичным, так же как и определения взяты из философской, а не из поэтической области предмета. Так что понять, насколько обоснована критика Дионисия, которая строго может относиться только к ритму слов, было бы привилегией одних греческих ушей, поскольку очевидно, что Теория Платона по этому пункту основывается на иных основаниях, нежели теория Дионисия. Для нас, кто не вникает столь глубоко в этот вопрос, полнота выражения, по-видимому, фактически достигает лишь предельных границ языка, не скованного метром, и в этом отношении, несомненно, Платон сам намеревался быть парадным.