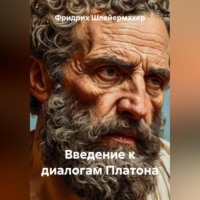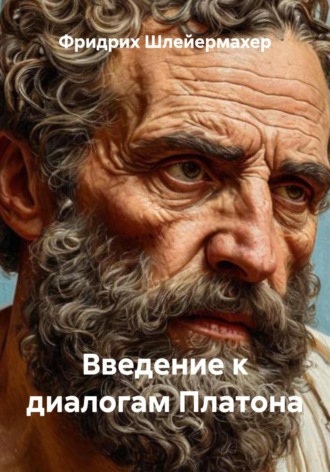
Полная версия
Введение к диалогам Платона
Во второй речи Сократа тот знаменитый миф является, наконец, без сомнения, самой важной частью, ради которой всё остальное содержание в этом диалоге было несправедливо отодвинуто на задний план. Следствием этого стало то, что даже сам миф не был до конца верно понят. Ибо Любовь понималась, по большей части, в слишком отвлечённом и ограниченном смысле, и многое было упущено или по-детски разменяно по мелочам. Меньше всего было замечено, что это – фундаментальный миф, из которого развиваются все последующие и входящие в целостную систему платоновской философии; так что чем больше предмет его, на продвинутых стадиях, переходит от мифического к научному, тем остальное всё более формируется с меньшей претензией и становится более живо мифическим. Так что Платон здесь, кажется, наиболее прямо принимает привилегию вплетать мифы в изложения своей философии. Хотя всё это не может быть здесь последовательно доказано, но должно подтвердиться само собой последующим.
Что касается частного предмета мифа, то мало определённого можно привести в иллюстрацию воображаемого в нём; и космографические представления особенно, которые являются его основой, тем труднее объяснить, чем больше миф покоится как раз на границе между Естественным и Сверхъестественным. Более точные толкования его, несомненно, были бы более желательны, чем то открытие, которое Гейне когда-то сообщил, что лошади в этом мифе были заимствованы у Парменида, что вряд ли будет обнаружено после прочтения указанного фрагмента. Ибо тождество в сравнении покоится не столько на образе, сколько на схожем применении его к объекту. Более того, в этом утверждении подразумевалось бы больше, чем тот учёный муж, вероятно, имел в виду: а именно, что Платон заимствовал своё деление души у Парменида.
В нашей признанной неопределённости относительно частностей, однако, можно сказать в целом, что некоторые из представлений в этом мифе, кажется, выведены одно из другого; и что, поскольку некоторые выражения заимствованы из мистерий, более полное понимание их, вероятно, способствовало бы больше всего объяснению. По этой причине ещё более точное знакомство с пифагорейскими учениями может не предполагаться истинным ключом даже к мифологии, тем менее к учению о человеческой душе, так же как и платоновское учение о повторном припоминании едва ли может быть объяснено от Пифагора.
Более того, основная часть этого мифа, очевидно, трактуется как побочная работа, чтобы добавить великолепия целому и гармонично связать строго аллегорические части его. Поэтому мы должны остерегаться слишком глубоко вдаваться в детали при объяснении и скорее удовлетвориться тем, что лишь верно понимаем те философские указания, которые Платон сам обозначает как таковые в изложении.
Можно было бы привести как следствие, достаточно прямое и, но мало замеченное, что в любом случае характер человека не возникает в течение его жизни, но существует в нём с самого начала. То, однако, что Тидеман обнаружил в представлении, что изначально сущее пребывает, не на небе, а в области за небосводом, вряд ли может быть подразумеваемо в этом. Но, возможно, наиболее трудно объяснить то, что сказано весьма подробно о различных характерах людей в зависимости от того, насколько они были больше или меньше проникнуты Вечным. Если поэтому ещё большие недостатки не лежат скрытыми под значительными разночтениями в редакциях, весь отрывок мог бы, возможно, принадлежать к тому классу украшений, в котором мы не должны искать слишком многого.
И, вообще, невозможно обратить внимание слишком сильно на тот факт, насколько полностью всё в этом диалоге направлено и применено риторически, так что даже здесь, где необузданное воображение было так часто обнаружено, подобно дикому коню, так сказать, платоновской философии, увлекающему за собой более мудрого, Платон предстаёт скорее со всем разумением мастера. И даже допуская, что в деталях это сочинение перенесло его близко к границам провинции, которая ему не принадлежала, как Дионисий даже сравнивает один отрывок с отрывком у Пиндара, стиль в основном прозаический на протяжении всего. Ибо набросать образ, как здесь сделано, сначала несколькими штрихами в общих чертах, а затем шаг за шагом разработать его далее, как требовала правильность, не могло быть выдержано в поэме.
Что касается второй части диалога, после всего уже сказанного в целом, нечего добавить, за исключением того, что, хотя она и не была полностью применена на практике, она стала истоком той усовершенствованной риторики, которая ведет свое начало от Аристотеля, который многим обязан этому труду. Замечания разъяснят отдельные трудности, и таким образом читатель не будет задержан дольше в преддверии этого великолепного и гениального произведения.
II. Лисид.
Достаточно неподтвержденная легенда, поскольку Диоген не называет нам имени ее источника, относит этот диалог к числу наиболее ранних, по крайней мере среди написанных до смерти Сократа. Однако ей можно приписать большую степень достоверности, чем аналогичной легенде о «Федре», поскольку последняя опирается лишь на внутренние свидетельства, тогда как первая основана на традиционном факте, а именно на восклицании удивления Сократа, когда он увидел себя в изображении, данном ему Платоном. Однако подобное свидетельство, сколь мало оно ни заслуживает этого названия, не является здесь основанием для отнесения данного диалога к указанному периоду; его место достаточно убедительно определяется внутренней связью, даже если бы оно не подкреплялось историческими отсылками. Ибо по своей тематике «Лисид» связан исключительно с «Федром» и «Пиром» из всех диалогов Платона, поскольку вопрос о природе и основаниях дружбы и любви, составляющий всё его содержание, является в «Федре» второстепенным и подчиненным по форме, тогда как в «Пире» он, по форме, первичен и доминирует. Очевидно, однако, что едва ли кому-либо пришло бы в голову поместить «Лисид» после «Пира», поскольку в последнем вопрос не только решен непосредственно и завершен до последнего штриха, но и рассмотрен в своих наиболее широких и общих взаимосвязях. Так что диалектические штрихи, подобные тем, из которых состоит «Лисид», вряд ли могли предназначаться для того, чтобы стать украшающим дополнением к тому обсуждению, в то время как разрабатывать его как самостоятельное целое после него было бы столь же мало согласовано с правилами искусства, сколь и лишено смысла, поскольку каждый уже имел перед собой в том диалоге решение каждого вопроса, поднятого в этом. А простая диалектическая упражняция, особенно столь незначительная, какой тогда оказался бы этот диалог, едва ли может быть приписана более совершенному мастеру позднего периода.
Следовательно, оставалось бы лишь исследовать далее, следует ли поместить «Лисид» до или после «Федра». Последний действительно также говорит решительно по главному вопросу, поскольку подробно развивает один источник любви и углубляется в его объяснение; так что кто угодно мог бы справедливо подумать, ссылаясь на это обстоятельство, что, как в случае с «Пиром», это противоречило бы принятым принципам помещать тот диалог перед «Лисидом», поскольку «Лисид» трактует ту же тему лишь скептически. Но великое различие должно само собой быть очевидным для тех, кто знает «Пир», в то время как для других, кто не знает, оно, безусловно, может быть выявлено без предварительного обзора того более позднего диалога. Ибо теория об источнике любви выдвигается в «Федре» лишь мифически; и помыслить о решении таким образом вопроса, который уже в более ранний период был взят в область логики, было бы не только противоречащим наиболее признанной аналогии в платоновских сочинениях, и всякому представлению о философии их автора, но даже само по себе порочным и бесполезным предприятием; потому что воспроизведение на диалектической почве тех мифических элементов, среди которых началось исследование, должно вновь сделать предмет запутанным и неопределённым.
К этому, более того, может быть добавлен следующий аргумент, который для многих, вероятно, окажется более решающим. В «Федре» материя трактуется гораздо менее общо, поскольку существуют ещё другие виды дружбы, чем та исключительно философская, которая там является предметом обсуждения, или чем тот исключительно чувственный вид, с которого берётся повод для постановки вопроса; но в какой точке эти другие отклоняются от первого, или насколько решение допускает применение к ним, нигде не указано. В «Лисиде», напротив, предмет обсуждения – дружба вообще; и помыслить о продолжении и доведении до заключения исследования, начатого с такими универсальными масштабами, и которое ещё не получает решающего ответа – помыслить о совершении этого посредством мифического изложения, и того, что относится лишь к одной части предмета – является нелепостью столь большой, что оно могло быть приписано лишь немыслящему и случайному писателю; описание, которое менее всего применимо к Платону. Следовательно, на «Федр» никоим образом не следует смотреть как на произрастающий из «Лисида», поскольку первый также не мог не показаться смехотворным любому, кто прочёл бы его со всё ещё сохраняющимся желанием разрешить логические сомнения, содержащиеся в «Лисиде»; но последний явно стоит между «Федром» и «Пиром». И далее может быть спрошено, к которому из двух он стоит ближе; следует ли рассматривать его как дополнение к «Федру» или как подготовительную заметку к «Пиру». К последнему он действительно приближается в своём более общем и разнообразном методе трактовки предмета; но не упоминая другие основания, которые не позволят полностью понять до того, как мы приступим к рассмотрению «Пира», в «Лисиде» полностью отсутствует какой-либо след того, что Платон написал между «Федром» и «Пиром»; и он сам настолько полностью может быть понят из себя и из «Федра», что занимает бесспорно место непосредственно после него, и почти должен рассматриваться лишь как дополнение к этому диалогу, или как расширенное диалектическое разъяснение его предмета. Ибо то, что в «Федре» выдвигается в мифической форме, что любовь имеет свой источник в тождестве идеального между двумя лицами, здесь доказывается диалектически, хотя косвенно и в расширенном смысле. Последнее, поскольку понятие отношения и родства включает в себя более, чем понятие тождества идеального; и действительно, на это понятие намекается в «Лисиде» так неопределённо, что лишь по ссылке на «Федр» оно может быть легко понято. Косвенно, поскольку все другие положения разрешаются в противоречия.
Ибо что это имеет место и с последним proposition, и particularly защищаемым Платоном, является лишь кажущимся. Гораздо более способ, в котором сомнения, возбуждённые против более раннего положения, что сходство является источником дружбы, применены к этому также, следует рассматривать как ключ ко всему целому, и который, несомненно, откроет весь смысл каждому, кто держит в уме намёки в «Федре». Подобное лишь тогда бесполезно для Подобного, когда человек ограничивается своей собственной внешней личностью и интересом в своём собственном чувственном бытии; но не для того, кто, принимая интерес в сознании духовного существования, возможного одновременно среди многих и для блага многих, расширяет сферу своего бытия за эти пределы; процесс, в ходе которого, во-первых, каждый человек универсально встречает нечто сходное и родственное себе, и не находящееся в борьбе с его собственными устремлениями. Подобные намёки также подразумеваются в аналогичных скептически предложенных положениях относительно бесполезности блага, поскольку оно воспринимается не как противоядие против зла, но самостоятельно и для себя. Аристотель, однако, по-видимому, не понял этих намёков. И это непонимание диалектики и полемики, встречающихся в сочинениях Платона, может вообще действительно быть извинено в его случае, так как его синонимичные искусства – из более грубого металла, и композиция, не допускающая отделки. Но в настоящем случае, где вопрос столь прост, источник его ошибки, по-видимому, заключается в том, что он, вероятно, знал очень мало о связи особенно более ранних платоновских сочинений.
Ибо несколько мест могут быть найдены в его этических трудах, в которых он, по-видимому, имел «Лисида» в своём уме, и все они выглядят так, как если бы он думал, что кажущаяся нерешительность Платона была настоящей, и полагал, что он был лишь не в состоянии выпутаться, отчасти потому, что он упустил различие между дружбой и влечением, отчасти потому, что он ошибался в своих трёх видах дружбы, и потому, естественно, не мог избежать падения в противоречие, всякий раз, как он думал перенести на других то, что имело силу только для одного. Теперь должно быть ясно каждому читателю «Лисида», с каким упорством Платон, хотя и только своим косвенным методом, привлекает внимание к тому различию, поскольку значительная часть диалога посвящена диалектическому изложению этого, и как решительно он отвергает так называемую дружбу полезности, и это также, безусловно, диалектически рассматриваемое, с величайшей справедливостью, так как эта полезность никогда и ни при каких обстоятельствах не является чем-либо самостоятельным, но всегда, и притом случайно, лишь в другом.
Аналогично, дальнейшие детали также свидетельствуют в пользу очень ранней даты написания «Лисида» после «Федра». Так, например, мы находим в этом диалоге также резкие переходы, игривый каприз в связи и изредка небрежность в выборе примеров; всё это даёт нам сильное чувство неопытности составителя. Таким образом, то, что происходит относительно темы эротических речей и стихов Гиппофала, также кажется продолжающимся намёком на эротические речи Лисия, весьма вероятно, вызванным неблагоприятными мнениями относительно поведения Платона по отношению к этому прославленному мужу.
Было бы излишним подробно отмечать весь ход диалога после данного общего его обзора, поскольку каждый теперь должен быть в состоянии судить, к какой точке стремятся отдельные линии и по какому правилу они должны быть проведены, чтобы достичь центральной точки целого. То, что многие полемические частности скрыты и в этом диалоге, каждый читатель угадал; и чувствуется достаточно определенно, что Платон полностью отделил бы физическое применение идеи дружбы от этического, если не совсем отверг первое. Таким образом, никому не может ускользнуть, как вторичная цель – та, что связывает дух с формой, а именно – предписать морально-эротическое обращение с объектом любви, не только достигается предварительными частями диалога, но и очень искусно внедрена через целое, и очень легко также, за исключением нескольких особенных резкостей, которые, именно потому, что их было легко избежать, выдают начинающего. То же самое можно сказать и о пышности в побочной работе, и определенной показной избыточности материала по всем пунктам.
Этот небольшой диалог примечателен тем способом, которым он указывает на принципы, с которых следует начать, чтобы понять и оценить произведения Платона, отчасти как яркий пример – и первый из таких примеров – того, как мало оснований у мнения, будто Платон вообще не намеревался решать вопросы, к исследованию которых он придаёт скептическую окраску, не записывая смысл загадки прямыми словами, как он здесь применяет тот метод в случае предмета, относительно которого выносит решение в двух других диалогах, и притом так, что внимательный читатель может без труда найти решение в том, что выглядит совершенно скептическим. Отчасти же он служит примером того, как легко Платон мог создавать диалоги более лёгкого характера, которые, рассматриваемые сами по себе, являются лишь диалектическими, но стоят в необходимой связи с чем-то мистическим вне их – подобно планетам, что лишь заимствуют свой свет от больших самостоятельных светил и движутся вокруг них. Также примером того, как внешняя сторона этих диалогов не может быть понята, если их связь с более крупными трудами не будет верно осмыслена; и как необходимо поэтому, если мы желаем определить тему таких произведений или установить, принадлежат ли они Платону или нет, чтобы все возможные средства были испробованы для определения их удалённости от главных светил и пути, по которому они движутся.
Что касается «Лисиды», теперь уже едва ли кто стал бы придавать большое значение сомнениям, которые слишком суровая и строгая критика могла бы возбудить против его подлинности – более того, вряд ли могло бы оказаться необходимым отсылать обвинителя далее к его подражательной и драматической форме, имеющей столь прекрасный эффект и столь много платоновского характера. О самих характерах нечего сказать; более того, не существует никаких следов того, что действительное событие является основой ни предмета, ни одеяния, в которое оно облечено.
III. Протагор
Перед нами предстают знаменитейшие мужи той эпохи, выступившие в роли наставников эллинской юношества: прежде всего Протагор, который из всех мастеров спора и красноречия, в силу основополагающего принципа своего искусства, более всех заслуживал стать предметом изучения для философа, подобно тому как и сам он в древности именовался философом и был удостоен такой чести; далее, учёный Гиппий, сведущий в истории и древностях, богатый сокровищами искусства и памяти; и Продик, прославившийся главным образом своими филологическими трудами и, пусть как менее значительная фигура, вносящий вклад в общее впечатление; а также друзья и почитатели этих мудрецов – цвет афинской юности, знаменитой отчасти благодаря своим отцам, отчасти же в последующие времена – собственными деяниями в качестве полководцев, демагогов и поэтов; сыновья Перикла, его воспитанник Алкивиад, Критий, Агафон и другие, которые, хоть и присутствуют в качестве безмолвных зрителей, возвышают пышность и блеск всего собрания. Именно в общество этих людей, вместе с Сократом и одним юношей, которого тот должен рекомендовать Протагору в ученики, и вводит нас этот богато украшенный диалог. И более того, он вводит нас в самый блистательный и роскошный дом Афин – дом Каллия, богатейшего гражданина, друга Перикла (приходившегося ему сводным братом после замужества его матери на Гиппонике, от которого она ушла), зятя Алкивиада, женатого на его сестре Гиппарете, узнаваемого и высмеиваемого комическими поэтами как самого ревностного и щедрого покровителя софистов, чьё безудержное мотовство в конце концов положило конец древнему блеску его дома, ведущего свою историю почти со времён Солона.
Вот мудрые и благородные персонажи, участвующие в диалоге, который Сократ здесь излагает своему другу сразу по его окончании; не требуется никаких дополнительных предварительных сведений о них, поскольку все они, и особенно последние, отражаются в самом произведении столь ясно и отчетливо, что оно является одним из первостепенных и важнейших источников, из которых можно почерпнуть знание об их характерах.
Однако вопрос о том, как это собрание было организовано, нельзя обойти стороной, поскольку еще в древности диалогу ставили в упрек, что его автор смог наделить его таким обилием важных персон лишь самым недопустимым образом – посредством грубых нарушений хронологической последовательности и дат. Ибо находятся несколько свидетельств, которые, казалось бы, указывают на то, что Платон представлял действие диалога происходящим не ранее 90-й олимпиады. Так, Гиппоник, отец Каллия, вообще не упоминается, а Протагор останавливается непосредственно у последнего, который предстает исключительно как полноправный хозяин; между тем Гиппоник погиб в битве при Делое не позднее начала 89-й олимпиады. Более того, что решающе важно, упоминается комедия Ферекрата «Дикари», поставленная в предыдущем году и украсившая Ленейские игры в последний год 89-й олимпиады.
Афиней, таким образом, исходит из этой точки и обвиняет Платона в двух погрешностях: во-первых, что Гиппий Пелопоннесский не мог находиться в Афинах в какое-либо иное время, кроме как во время перемирия при Исархе, в первый год 89-й олимпиады (против чего Дасье в своем предисловии к переводу «Протагора» пытается оправдать Платона); и далее, что Платон в первый год 90-й олимпиады не мог сказать о Протагоре, что тот прибыл в Афины три дня назад, поскольку он выведен в комедии Евполида «Льстецы» как уже присутствующий в третий год 89-й олимпиады.
Но даже если кто-то склонен согласиться с Дасье относительно первого пункта, а относительно второго – отвергнуть свидетельство комического поэта, который, как и Платон, мог позволить себе вымысел, все же дело на этом не заканчивается, поскольку существует несколько бесспорных свидетельств, всячески противоречащих датировке диалога этим годом и заставляющих отнести его к более раннему времени; и удивительно, что они не упомянуты в том критическом пассаже Афинея, хотя он приводит их в других местах.
Ибо, во-первых, Сократ обращается с Протагором как с еще молодым человеком и даже сам себя таковым называет, чего он не мог делать всего за двадцать лет до своей смерти. Кроме того, Алкивиад, который всего через год после предполагаемой Афинеем даты именуется стратегом, здесь назван юношей с пушком на щеках, а Агафон, увенчанный как трагический поэт в той же олимпиаде, – мальчиком. Более того, что самое решительное доказательство, о Перикле говорится как о еще живом, а его сыновья, умершие раньше него от чумы, присутствуют в собрании, откуда явственно следует, что действие диалога отнесено ко времени ранее третьего года 87-й олимпиады.
Поскольку столь многие второстепенные детали (совершенно не существенные для сути диалога, как, например, Агафон и сыновья Перикла) совпадают с этой последней эпохой, очевидно, что именно она наиболее ясно представлялась Платону и которую он действительно намеревался соблюсти при написании произведения. Что же касается свидетельств в пользу более поздней даты, то можно спросить: не была ли комедия Ферекрата уже поставлена до упомянутого Афинеем представления, будь то в том же или в менее совершенном виде, особенно учитывая, что здесь речь идет о представлении на Ленеях; ибо невозможно допустить мысль об оплошности, совершенной Платоном, если предположить, что он здесь вернулся ко времени, в которое действительно писал.
Подобным же образом можно усомниться, действительно ли необходимо считать Гиппоника умершим, и не мог ли он отсутствовать, быть может, в армии под Потидеей, если не рассматривать второй год 87-й олимпиады, когда Гиппоник командовал войском против танагрейцев. Во всяком случае, скорее можно допустить, что Платон перенес в неподходящий период это одно обстоятельство, важное для его замысла, нежели что он намеренно поступил так с деталями малозначительными и несущественными; и в этом случае «Дикарей» Ферекрата также можно было бы приурочить к этой дате, дабы не оставлять этот вымысел в совершенной изоляции и сохранять более двусмысленным то, что нельзя было ясно установить.
Ибо Платон не мог выбрать лучшего места для этого зрелища, чем дом Каллия, и, вероятно, «Льстецы» Евполида послужили поводом для этой идеи и соблазном для такой вольности. И столь же необходима была для него та более ранняя эпоха, когда те мудрецы были действительно в зените своей славы и, таким образом, могли быть собраны в Афинах; и когда, более того, это поколение ищущих знаний юношей еще не было посвящено делам государственным и военным. Более того, это, должно быть, коробило чувство приличия Платона – изображать Сократа в годы его приближающейся старости участвующим в такой схватке-апоне с софистами и выставлять даже Протагора, к которому он не может не питать определенного уважения, мишенью такой сократической иронии в его действительно преклонных летах.
И даже здесь то, что говорит Протагор, хвастливо преувеличивая свой возраст, и то, как Сократ уничижительно отзывается о собственной молодости, может быть не без цели, но имело намерение бросить тень насмешки на стандарты тех, кто, быть может, упрекал самого Платона в его молодости. Ибо Протагор был изгнан из Афин в начале 92-й олимпиады, во время переворота, осуществленного Антифонтом из Рамнунта, и умер, как полагают, в изгнании, по одним сведениям, семидесяти, по другим – девяноста лет от роду. Если же мы будем искать истину даже между этими двумя датами, хотя Платон в «Меноне» явно склоняется к первому мнению, то все же пятью олимпиадами ранее он не мог так хвалиться своей старостью перед Сократом, которому было тогда почти сорок лет, без некоторой доли преувеличения.
Следовательно, я бы, продолжая, если считается невозможным разрешить противоречия в датировках, остановился на том, что более раннее время – это то, которое соответствует природе диалога и в которое Платон истинно желал бы перенести читателя, и что от более поздней даты примешаны лишь некоторые незначительные обстоятельства, возможно бессознательно, в качестве украшения. Ибо в конечном счете это не более чем поверхностный приём – удовлетвориться простым предположением, что разные даты смешаны друг с другом, и что эта кажущаяся путаница не проистекает из метода и совести древнего автора.