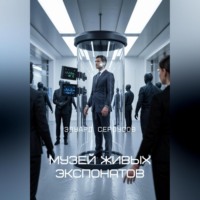Полная версия
Хроники несуществующего
– Но? – подтолкнул её Дмитрий.
– В моей исследовательской работе я сталкивалась с некоторыми… странностями, – медленно сказала Анна. – Несоответствиями в документах. Свидетельствами о событиях, которые противоречили официальной истории. Я списывала это на ошибки, фальсификации, искажения памяти. Но теперь…
– Что именно вы находили? – заинтересовался Дмитрий.
– Например, упоминания о встрече Горбачёва с диссидентами в 1985 году, которой официально не было. Или документы о массовых арестах в Ленинграде в 1981-м, о которых нигде больше не упоминается. Мелочи, несоответствия… но их было много, слишком много для простых ошибок.
Дмитрий кивнул.
– Вчера я встретился с человеком, который утверждает, что существует тайная организация, контролирующая историю России путём "перезагрузок" коллективной памяти. Что они каким-то образом стирают определённые события из истории и из сознания людей, оставляя только ту версию прошлого, которая им выгодна.
– И вы верите в это? – спросила Анна.
– Не знаю, – честно ответил Дмитрий. – Ещё три дня назад я бы рассмеялся, услышав такую теорию. Но теперь… Слишком много странностей, слишком много совпадений. Документ, который исчезает. Люди из "министерства", которые ищут что-то, не говоря прямо, что именно. Странные ощущения дежавю в местах, упомянутых в документе.
– И человек, который должен быть мёртв, но почему-то жив, – тихо добавила Анна.
Дмитрий резко поднял голову.
– Что вы сказали?
– Лев Иосифович Бреславский, начальник отдела кадров, – сказала Анна. – Когда я готовилась к собеседованию, то искала информацию об архиве, о его сотрудниках. И нашла некролог трёхлетней давности. "Скоропостижно скончался многолетний сотрудник архива, начальник отдела кадров Л.И. Бреславский". С фотографией, датами жизни, соболезнованиями коллег. А вчера я разговаривала с ним лично.
Дмитрий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Значит, это не его личная галлюцинация. Анна тоже заметила несоответствие.
– Вы показывали этот некролог кому-нибудь? – спросил он.
– Нет, – покачала головой Анна. – Я решила, что это какая-то ошибка, совпадение имён или устаревшая информация. Но теперь, после вашего рассказа…
Она достала свой телефон, несколько секунд искала что-то в браузере, затем показала экран Дмитрию.
– Вот, смотрите.
На экране была страница архивного сайта с сообщением: "С прискорбием сообщаем о кончине нашего коллеги, Льва Иосифовича Бреславского, последовавшей 15 марта 2022 года после продолжительной болезни".
– Я видела это три дня назад, – сказала Анна. – Сохранила ссылку.
Дмитрий взял телефон и нажал на ссылку. Страница открылась, но вместо некролога на ней было сообщение: "Страница не найдена".
– Она исчезла, – прошептал он. – Как и документ 17-А.
Они молча смотрели друг на друга, осознавая импликации того, с чем столкнулись.
– Что нам делать? – спросила наконец Анна.
– Продолжать искать, – решительно сказал Дмитрий. – Собирать доказательства. Найти больше артефактов… памяти, как их называет мой знакомый. Документы, фотографии, вещи, которые сохранили информацию о "стёртых" событиях.
– И что потом? – спросила Анна. – Предположим, мы найдём доказательства того, что история действительно меняется. Что кто-то манипулирует коллективной памятью. Что мы будем делать с этим знанием?
Дмитрий задумался. Он ещё не заглядывал так далеко.
– Не знаю, – честно признался он. – Может быть, попытаемся остановить их. Или, по крайней мере, понять, как и зачем они это делают.
– Это опасно, – заметила Анна. – Если такая организация действительно существует, они не обрадуются, когда узнают, что кто-то раскрыл их секрет.
– Уже слишком поздно беспокоиться об этом, – сказал Дмитрий. – Они уже знают, что я видел документ 17-А. Они следят за мной, посылают людей проверять, что я знаю. Я уже в опасности, хочу я того или нет.
Анна кивнула.
– Тогда мы должны быть очень осторожны. И очень умны.
– Мы? – переспросил Дмитрий. – Вы действительно хотите в этом участвовать? Вы только начали работу, у вас вся карьера впереди. Зачем вам рисковать всем ради сомнительной теории заговора?
– Потому что я историк, – повторила Анна. – И если кто-то манипулирует историей, искажает правду о нашем прошлом – это моё дело. Наше дело.
Дмитрий внимательно посмотрел на неё. В её глазах читалась решимость и искренность. Может быть, она действительно просто увлечённый историк, который не может пройти мимо исторической загадки. Или очень хорошая актриса на службе у таинственного ордена. В любом случае, сейчас она была его единственным потенциальным союзником.
– Хорошо, – сказал он наконец. – Но давайте договоримся: никаких записей, никаких электронных следов. Всё, что мы обнаружим, храним только в памяти или на бумаге, которую носим с собой. И никому не доверяем, кроме друг друга.
– Согласна, – кивнула Анна. – И ещё одно. Мы должны установить какой-то сигнал безопасности. Способ узнать, что с другим всё в порядке, что это не… не подделка, не двойник, не человек с "перезагруженной" памятью.
Дмитрий задумался.
– Хорошая идея. Давайте придумаем кодовую фразу. Что-то, что будет иметь смысл только для нас двоих.
– "История написана на песке", – предложила Анна. – Вы сказали эту фразу сегодня. Если один из нас спросит: "На чём написана история?", другой должен ответить: "На песке, и любая волна может смыть её".
– Договорились, – кивнул Дмитрий. – И давайте встречаться вне архива. Там слишком много глаз и ушей.
– Где?
– Здесь, в "Хроносе", – сказал Дмитрий. – Каждый вторник и пятницу, в семь вечера. Если кто-то не приходит, другой ждёт полчаса и уходит. Никаких звонков, никаких сообщений – их можно отследить.
Анна кивнула, соглашаясь с правилами игры.
– Что будем делать завтра? – спросила она. – Эти люди из "министерства" вернутся. Они будут наблюдать за нами ещё внимательнее.
– Будем делать свою работу, – ответил Дмитрий. – И параллельно искать другие несоответствия, другие следы "перезагрузок". Только очень осторожно.
Они ещё некоторое время обсуждали детали своего негласного расследования, затем решили расходиться – слишком долгое пребывание вместе могло вызвать подозрения.
– До завтра, Дмитрий Алексеевич, – сказала Анна, вставая.
– До завтра, Анна Сергеевна, – ответил он. – И будьте осторожны.
Когда она ушла, Дмитрий ещё некоторое время сидел, размышляя о странном повороте, который приняла его жизнь. Ещё неделю назад он был обычным архивариусом, занимающимся рутинной работой. Теперь он расследовал возможный заговор по манипуляции историей, встречался с таинственными информаторами и устанавливал кодовые фразы с новой коллегой.
Он достал из кармана странный компас, подаренный Ландау. Стрелка по-прежнему беспорядочно вращалась, не указывая ни на одно конкретное направление. "Интересно, как он работает? И работает ли вообще?" – подумал Дмитрий, убирая компас обратно в карман.
Выйдя из кафе, он решил пройтись пешком, чтобы проветрить голову. Вечерняя Москва была полна огней и звуков, люди спешили по своим делам, не подозревая, что история, которую они считали незыблемой, могла быть лишь одной из многих версий, сконструированной неизвестными манипуляторами.
Проходя мимо газетного киоска, Дмитрий машинально бросил взгляд на заголовки вечерних газет. И застыл на месте. Крупный заголовок на первой полосе "Вечерней Москвы" гласил: "35 лет назад: как Москва помнит события августа 1983".
Он моргнул, и заголовок изменился: "35 лет назад: как Москва встречала олимпийских чемпионов".
Дмитрий протёр глаза, думая, что ему показалось. Но внутренний голос подсказывал: это не галлюцинация. Это ещё одно доказательство того, что реальность нестабильна, что история действительно меняется на глазах.
Он быстро купил газету и углубился в чтение, ища хоть какие-то следы той первой версии заголовка, которую увидел. Но ничего подобного там не было – только статья о достижениях советских спортсменов.
Дмитрий сложил газету и продолжил путь, чувствуя, как мир вокруг него постепенно теряет привычную твёрдость, становясь зыбким и ненадёжным, как песок под набегающей волной.

Глава 3: "Фотография"
Дмитрий вернулся домой поздно вечером, с ощущением, что за ним следят. Несколько раз по пути он останавливался, делая вид, что рассматривает витрины магазинов, а на самом деле проверяя, нет ли хвоста. Один раз ему показалось, что он заметил того самого молодого человека, Антона, который приходил в архив с Колесниковым, но фигура быстро скрылась в толпе.
Его квартира находилась в типичной московской многоэтажке, построенной в 1970-х – ничего примечательного, обычное жилье одинокого мужчины средних лет. Книжные полки, заставленные историческими монографиями и архивными справочниками, минимум мебели, несколько фотографий на стенах – в основном исторические виды Москвы разных эпох.
Войдя в квартиру, Дмитрий первым делом проверил, не нарушен ли его персональный "индикатор вторжения" – тонкий волос, натянутый между дверью и косяком на уровне колена. Волос был на месте – значит, никто не входил в его отсутствие. По крайней мере, не через дверь.
Он прошёл на кухню, поставил чайник и достал из холодильника остатки вчерашнего ужина. Голова гудела от информации, противоречивых теорий и вопросов без ответов. Кто такая Анна – союзник или подосланный агент? Что ищут люди из "министерства"? Действительно ли существует тайная организация, манипулирующая историей?
И самое главное – что делать с этим знанием? Если профессор Ландау прав, и история действительно подвергается "перезагрузкам", то любые доказательства могут просто исчезнуть, как папка 17-А. Любые свидетели могут внезапно "забыть" то, что знали, или даже не существовать в новой версии реальности.
После ужина Дмитрий решил ещё раз просмотреть свои личные архивы – может быть, там найдутся ещё какие-то следы "стёртых" событий. Он подошёл к книжному шкафу, за которым была небольшая потайная ниша, и достал оттуда металлическую коробку. В ней хранились самые ценные для него документы – личные письма, фотографии родителей, старые дневники.
Среди прочего там была фотография, которую он не рассматривал уже много лет. Снимок был сделан его отцом в начале 90-х годов во время поездки в Москву. На нём был запечатлён сам Дмитрий, тогда ещё студент исторического факультета, стоящий на Пушкинской площади.
Он достал фотографию и поднёс ближе к свету. И тут же почувствовал, как по спине пробежал холодок. На заднем плане, за его фигурой, виднелся памятник – не Пушкину, а какой-то современный монумент, простая гранитная стела. Дмитрий поднёс фотографию ещё ближе к лампе и с трудом разобрал надпись на стеле: "В память о жертвах Московского восстания 1983 года".
Тот самый памятник, который был на фотографиях в альбоме профессора Ландау. Памятник, которого никогда не существовало – по крайней мере, в той версии истории, которую помнил Дмитрий.
Но вот он, запечатлённый на фотографии, сделанной его собственным отцом. И Дмитрий был уверен, что раньше на этом снимке никакого памятника не было – только обычный вид Пушкинской площади с памятником поэту.
"Либо моя память играет со мной злую шутку, либо сама реальность меняется, включая материальные свидетельства прошлого," – подумал он, чувствуя, как земля уходит из-под ног.
Он лихорадочно начал просматривать другие фотографии из той же поездки. На большинстве из них памятника не было видно, но на одном групповом снимке, где Дмитрий стоял с однокурсниками, в углу кадра снова виднелся краешек той же стелы.
Дмитрий опустился в кресло, пытаясь осмыслить увиденное. Если верить этим фотографиям, памятник жертвам восстания 1983 года действительно существовал в начале 90-х годов. Но почему он этого не помнил? И почему памятника больше не было на Пушкинской площади?
"Перезагрузка истории", – прошептал он. Именно об этом говорил Ландау. События стираются из коллективной памяти, из документов, из самой реальности. Но некоторые артефакты – "артефакты памяти" – почему-то сохраняют информацию о "стёртых" временных линиях.
Дмитрий взял телефон и сфотографировал снимки, затем тщательно убрал оригиналы обратно в коробку. Ему нужно было больше информации, больше доказательств.
Он включил компьютер и начал поиск в интернете, используя различные комбинации ключевых слов: "памятник жертвам 1983", "стела Пушкинская площадь восстание", "монумент 1983 Москва". Результаты были разочаровывающими – никаких упоминаний о таком памятнике, ничего о восстании 1983 года.
Тогда Дмитрий решил попробовать поиск на более маргинальных ресурсах – форумах любителей истории, сайтах, посвящённых конспирологическим теориям, блогах о необъяснимых явлениях. И здесь ему повезло. На небольшом форуме "Альтернативная история России" он нашёл тему под названием "Исчезнувшие события: коллективная амнезия или манипуляция?"
В этой теме несколько участников обсуждали странные исторические несоответствия, которые они замечали – события, которые помнили они, но не помнили окружающие, памятники, которые исчезли, людей, которые вроде бы умерли, но вдруг оказались живы.
Один из комментариев привлёк особое внимание Дмитрия:
"Кто-нибудь помнит памятник жертвам на Пушкинской? Стоял там с 1990 по 1993, потом исчез. И не просто исчез – никто не помнит, что он вообще был. Я спрашивал друзей, родственников – все смотрят на меня как на сумасшедшего. Но у меня есть фотография, где этот памятник чётко виден!"
Комментарий был оставлен пользователем с ником "Хранитель_памяти". Дмитрий немедленно зарегистрировался на форуме и отправил личное сообщение:
"Здравствуйте. Я тоже нашёл фотографию с памятником жертвам 1983 года на Пушкинской. И документы о самом восстании. Хотел бы поговорить с вами об этом."
Отправив сообщение, Дмитрий продолжил изучать форум. Здесь были и другие упоминания странных исторических несоответствий – массовые беспорядки в Ленинграде в 1981 году, встреча Горбачёва с диссидентами в 1985-м (то же самое, что упоминала Анна), загадочный инцидент в Москве в 1977 году, когда якобы были замечены НЛО над Кремлём.
Большинство сообщений были написаны в характерном для конспирологов стиле – много восклицательных знаков, заглавных букв, драматических утверждений без достаточных доказательств. Но некоторые комментарии выглядели вполне рациональными и содержали конкретные детали, которые трудно было просто выдумать.
Особенно интересной была ветка обсуждения, посвящённая "историческим перезагрузкам". Один из участников, с ником "Наблюдатель", утверждал, что история периодически "перезагружается" – определённые события стираются из коллективной памяти и документов, заменяясь альтернативной версией прошлого. По его теории, эти "перезагрузки" происходят в ключевые моменты истории – 1917, 1937, 1953, 1991 годы.
"Это те же даты, которые упоминал Ландау," – подумал Дмитрий, чувствуя, как по спине бежит холодок. Совпадение? Или профессор и этот таинственный "Наблюдатель" имели доступ к одной и той же информации?
В этот момент компьютер звякнул – пришло новое сообщение. "Хранитель_памяти" ответил:
"Рад, что я не один. Не хочу обсуждать это здесь. Встретимся лично? Завтра, 11:00, Новодевичье кладбище, у могилы Хрущёва."
Дмитрий задумался. Встреча с незнакомцем в уединённом месте могла быть ловушкой. С другой стороны, Новодевичье кладбище – общественное место, там всегда есть люди, туристы, экскурсии. Не самое логичное место для похищения или нападения.
Он решил рискнуть и ответил:
"Договорились. Как я вас узнаю?"
Ответ пришёл почти мгновенно:
"У меня в руках будет красная книга. Спросите, который час."
Дмитрий отправил короткое "ОК" и выключил компьютер. Завтра предстоял напряжённый день – работа в архиве под наблюдением людей из "министерства", затем тайная встреча на кладбище с загадочным "Хранителем памяти".
Он лёг спать, но долго не мог уснуть, прокручивая в голове события последних дней. Когда сон наконец пришёл, Дмитрию приснилась Пушкинская площадь, заполненная людьми с плакатами, и памятник – то появляющийся, то исчезающий, как мираж в пустыне.
Утро началось с неожиданного звонка в дверь. Дмитрий, только что вышедший из душа, замер с полотенцем в руках. Он никого не ждал, особенно в такую рань – было всего семь утра.
Осторожно подойдя к двери, он посмотрел в глазок и увидел Сергея Петровича Махова, директора архива. Это было необычно – Махов никогда раньше не приходил к нему домой.
– Кто там? – спросил Дмитрий, хотя уже знал ответ.
– Сергей Петрович, – ответил Махов. – Открывай, Дмитрий, разговор есть.
Дмитрий быстро оделся и открыл дверь. Махов выглядел усталым и напряжённым.
– Извини за ранний визит, – сказал директор, проходя в квартиру. – Но дело срочное.
– Что случилось? – спросил Дмитрий, провожая гостя на кухню.
– Ты в беде, – прямо сказал Махов, усаживаясь за стол. – Серьёзной беде.
Дмитрий почувствовал, как сердце начинает биться чаще.
– О чём вы?
– О документе 17-А, – ответил Махов. – О том, что ты солгал Тимофееву. О том, что ты встречался с Ландау.
Дмитрий сохранял внешнее спокойствие, хотя внутри всё сжалось.
– Я не понимаю, о чём вы, – сказал он.
– Не делай вид, что не понимаешь, – вздохнул Махов. – Мы знакомы пятнадцать лет. Я вижу, когда ты лжёшь. И сейчас ты лжёшь.
Он достал из внутреннего кармана пиджака фотографию и положил на стол. На снимке был Дмитрий, выходящий из букинистического магазина вместе с профессором Ландау. Дата на углу фотографии показывала вчерашний день.
– За мной следили, – констатировал Дмитрий.
– Конечно, – кивнул Махов. – С того момента, как ты нашёл документ 17-А. Они всегда так делают.
– Они?
– Ты же уже знаешь, – Махов смотрел прямо на него. – Орден Хронографов. Хранители времени. Те, кто контролирует историю.
Дмитрий молчал, оценивая ситуацию. Махов знал об ордене. Знал о его встрече с Ландау. Знал о документе. Что ещё он знал? И на чьей он стороне?
– Чего они хотят? – спросил наконец Дмитрий.
– Документ исчез, – сказал Махов. – Но они не уверены, сделал ли ты копию. И что именно ты успел узнать от Ландау. Они хотят быть уверены, что информация не распространится дальше.
– И как они собираются в этом убедиться?
Махов вздохнул.
– Есть разные способы. Самый простой – локальная "перезагрузка". Стирание конкретных воспоминаний у конкретного человека. Но это не всегда работает с такими, как ты.
– Какими "такими"?
– Неподдающимися. Людьми с иммунитетом к изменениям памяти, – объяснил Махов. – Таких немного, но они существуют. И судя по тому, что ты заметил несоответствия в истории, ты один из них.
Дмитрий внимательно смотрел на директора.
– А вы? Вы тоже "неподдающийся"?
– Нет, – покачал головой Махов. – Я просто знаю об ордене. Я… сотрудничаю с ними.
– Вы их агент, – констатировал Дмитрий.
– Не совсем, – поморщился Махов. – Скорее, я знаю о их существовании и иногда оказываю услуги. Как и многие другие в определённых позициях. Мы не члены ордена, но мы… осведомлены.
– И сейчас вы пришли, чтобы… что? Предупредить меня? Угрожать? Арестовать?
– Предупредить, – серьёзно сказал Махов. – Я знаю тебя много лет, Дмитрий. Ты хороший человек и отличный архивариус. Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое.
– Что они собираются делать?
– Сегодня Тимофеев и его люди снова придут в архив. Они будут наблюдать за тобой, за твоей реакцией на определённые документы. Попытаются понять, что именно ты знаешь и помнишь, – Махов помолчал. – А вечером, если не будут удовлетворены результатами, могут предпринять более… решительные меры.
– Какие именно?
– Не знаю, – признался Махов. – Я не в их внутреннем круге. Но слышал о случаях, когда люди, слишком много узнавшие об ордене, просто… исчезали. А потом появлялись снова, но с другими воспоминаниями, другой личностью. Как будто их переписали.
Дмитрий почувствовал холодок внутри. Это звучало гораздо серьёзнее, чем он предполагал.
– Что вы предлагаете?
– Сотрудничай с ними, – сказал Махов. – Отдай все копии документа, если они у тебя есть. Забудь всё, что ты узнал. Вернись к нормальной жизни.
– А если я не могу? – тихо спросил Дмитрий. – Если я уже слишком много знаю и не могу просто "забыть"?
Махов вздохнул.
– Тогда тебе лучше исчезнуть. Уехать из Москвы, из России. Сменить имя, внешность, начать новую жизнь.
– Звучит как паранойя, – заметил Дмитрий.
– Может быть, – согласился Махов. – Но лучше быть живым параноиком, чем мёртвым скептиком. Или, что ещё хуже, человеком с переписанной личностью.
Он встал, давая понять, что разговор окончен.
– Я сделал, что мог, Дмитрий. Предупредил тебя. Дальше решай сам. Но помни – они могущественнее, чем ты думаешь. И они контролируют не только документы, но и саму реальность.
Когда Махов ушёл, Дмитрий ещё долго сидел на кухне, обдумывая услышанное. Директор архива подтвердил существование ордена Хронографов. Подтвердил, что они манипулируют историей и памятью людей. И предупредил об опасности.
Стоит ли верить Махову? Может быть, это проверка, тест на лояльность? Или он действительно пришёл предупредить из личной симпатии?
В любом случае, теперь Дмитрий знал, что за ним следят, и что опасность реальна. Нужно было решать, что делать дальше.
Он подумал о встрече с "Хранителем_памяти", запланированной на 11 часов. Стоит ли идти? Это могла быть ловушка, организованная орденом. Но также это мог быть потенциальный союзник, ещё один человек, заметивший несоответствия в истории.
После недолгих размышлений Дмитрий решил рискнуть и пойти на встречу. Но сначала нужно было появиться в архиве, чтобы не вызывать лишних подозрений.
В архиве Дмитрия уже ждала Анна. Она сидела за своим столом, просматривая какие-то документы, и выглядела совершенно обычно – никаких признаков напряжения или страха.
– Доброе утро, Дмитрий Алексеевич, – улыбнулась она. – Как выходные?
– Спокойно, – ответил он, внимательно наблюдая за её реакцией. – Ничего особенного.
Если Анна и знала о его встрече с Ландау или о визите Махова, она не подавала вида.
– У нас сегодня снова будут гости, – сказала она, понизив голос. – Я видела Колесникова и его молчаливого помощника в кабинете Сергея Петровича.
– Неудивительно, – кивнул Дмитрий. – Они говорили, что вернутся.
Он сел за свой стол и включил компьютер, стараясь выглядеть как обычно. Внутри него шла напряжённая работа мысли: как вести себя с Тимофеевым и его людьми? Что они будут искать в его реакциях? И как незаметно уйти на встречу с "Хранителем_памяти"?
Через полчаса в зал вошли Колесников, Антон и Тимофеев. Они сразу направились к столу Дмитрия.
– Доброе утро, Дмитрий Алексеевич, – поздоровался Колесников. – Надеюсь, мы не помешаем вашей работе?
– Ничуть, – ответил Дмитрий. – Чем могу помочь?
– Мы хотели бы продолжить изучение документов, – сказал Колесников. – В частности, нас интересуют материалы о политической ситуации в Москве летом 1983 года.
Дмитрий кивнул, сохраняя нейтральное выражение лица.
– Конечно. У нас есть несколько фондов по этому периоду. Что именно вас интересует?
– Всё, – вмешался Тимофеев, пристально глядя на Дмитрия. – Любые документы, касающиеся общественных настроений, политических движений, неофициальных групп.
– И особенно, – добавил Колесников, – нас интересуют документы с грифом "Особая папка" и маркировкой, начинающейся с цифры "17".
Это было прямое указание на документ 17-А. Они проверяли реакцию Дмитрия.
– Я не уверен, что у нас есть такие документы, – спокойно ответил он. – Но мы можем поискать.
Следующие два часа прошли в напряжённой работе. Дмитрий и Анна помогали "гостям" искать документы по указанной теме, при этом Дмитрий чувствовал на себе постоянный наблюдающий взгляд Антона. Молчаливый помощник Колесникова не произнёс ни слова, но не спускал глаз с архивариуса.
К 10:30 Дмитрий начал нервничать. Встреча с "Хранителем_памяти" была назначена на 11:00, а Новодевичье кладбище находилось не близко. Нужно было найти предлог, чтобы уйти.
– Извините, – сказал он, глядя на часы. – У меня назначена встреча с реставраторами в другом отделе. Это ненадолго, я скоро вернусь.
– Реставраторами? – переспросил Тимофеев, явно не веря. – В понедельник?
– Да, они работают над восстановлением старых фотографий, – солгал Дмитрий. – Мы договорились встретиться сегодня, чтобы обсудить методы сохранения.
Тимофеев переглянулся с Колесниковым.
– Может быть, Антон составит вам компанию? – предложил Колесников. – Ему тоже интересна эта тема.