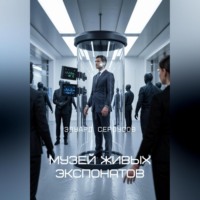Полная версия
Хроники несуществующего

Эдуард Сероусов
Хроники несуществующего
ЧАСТЬ I: ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИИ
Глава 1: "Документ 17-А"
Архивариус третьего ранга Дмитрий Черновик был абсолютно уверен, что история – это то, что уже случилось, и поэтому изменить её нельзя. Так его учили в университете, так было написано в учебниках, да и логика здравого смысла подсказывала то же самое. Он считал себя профессиональным скептиком, а любые разговоры о переписывании прошлого вызывали у него ту особую брезгливость, которую испытывает математик, когда кто-то утверждает, что дважды два – пять с половиной. Поэтому, когда он обнаружил в папке с грифом "Совершенно секретно" документ о событии, которого никогда не было, Дмитрий решил, что это чья-то неуклюжая мистификация. Он и представить не мог, что через несколько недель будет бежать по ночной Москве, преследуемый людьми, которые официально не существуют, держа в руках компас, указывающий не на север, а на правду – такую хрупкую и изменчивую субстанцию, что её не решился бы внести ни в один архивный каталог. Впрочем, коллеги Дмитрия говорили, что у него всегда было слишком богатое воображение для архивариуса. Проблема заключалась в том, что Дмитрий не воображал. Он вспоминал…
Государственный архив Российской Федерации напоминал огромный улей, в котором вместо мёда хранились тонны бумаги. Именно такое сравнение пришло в голову Дмитрию, когда он, в очередной раз проходя по длинным коридорам с металлическими стеллажами, услышал специфический гул. Этот звук производили сотни люминесцентных ламп, десятки компьютеров, вентиляционная система и тихие разговоры сотрудников – библиотечным шёпотом, который никто не требовал, но все почему-то соблюдали.
Дмитрию иногда казалось, что и сама история звучит именно так – как неразборчивый шёпот за стеной, который ты не можешь разобрать, как ни старайся. А может быть, это шуршали тысячи страниц, переворачиваемые невидимыми читателями – духами прошлого, заглядывающими через плечо архивариусов, чтобы убедиться, что их жизни правильно каталогизированы.
– Черновик! Ты что, медитируешь тут? – раздался за спиной голос Сергея Петровича Махова, директора архива, полного мужчины с аккуратной бородкой и вечно поднятыми бровями, словно мир не переставал его удивлять.
– Извините, задумался, – Дмитрий повернулся, инстинктивно прижимая папку с документами к груди.
– У тебя есть для этого специально отведённое время – после работы, – Махов всегда шутил с видом человека, который делает одолжение собеседнику. – Пойдём ко мне, есть разговор.
В кабинете директора было чисто и безлико, как в приёмной частной клиники – минимум личных вещей, минимум украшений, словно сам Махов считал себя временным явлением в этих стенах и не хотел оставлять следов. На столе, кроме компьютера и подставки для ручек, стояла только фотография, на которой Сергей Петрович пожимал руку какому-то высокопоставленному чиновнику.
– Садись, – Махов кивнул на стул напротив. – Есть важное задание. К нам поступила партия недавно рассекреченных документов, – он постучал пальцем по стопке папок на углу стола. – Период поздний Советский Союз, начало восьмидесятых. Их нужно обработать, каталогизировать и оцифровать.
– Почему я? – спросил Дмитрий, хотя уже знал ответ.
– Потому что у тебя высший допуск, хороший почерк и мало друзей, – улыбнулся Махов. – Кому ещё я могу доверить сидеть до ночи, если понадобится?
Это была правда. Дмитрий Черновик, сорока двух лет от роду, был именно тем человеком, которого можно было попросить задержаться допоздна, не опасаясь, что он сошлётся на семейные обстоятельства или планы на вечер. После развода три года назад его жизнь сократилась до простой схемы: работа – дом – работа. Иногда, по выходным – книжный магазин или выставка. Никаких сложностей, никаких неожиданностей.
– Хорошо, я займусь, – кивнул он, разглядывая стопку папок. Не то чтобы у него был выбор.
– Вот и отлично, – Махов откинулся на спинку кресла. – Только учти, мы обещали всё сделать быстро. Есть какие-то особые указания сверху по этим материалам. Так что первая партия должна быть обработана уже к концу недели.
– Успею, – Дмитрий взял папки. – Что-то ещё?
– Да, – Махов понизил голос, хотя они были одни в кабинете. – Эти документы особой важности. Если найдёшь что-то… необычное, докладывай сразу мне. Лично. Понял?
Это уже было интересно. Обычно начальство не проявляло такого внимания к рутинной работе по обработке документов.
– Что значит "необычное"? – уточнил Дмитрий.
– Ну, ты поймёшь, если увидишь, – Махов неопределённо махнул рукой. – Что-то, что явно не вписывается в… в общую картину. Аномалии, противоречия, странности. Ясно?
– Вполне, – ответил Дмитрий, хотя на самом деле ничего ясно не было.
Рабочее место Дмитрия находилось в дальнем углу одного из архивных залов. Небольшой стол, компьютер, сканер и кофеварка – его личный оазис среди бесконечных стеллажей. Когда-то его раздражало, что стол стоит так далеко от окон, но со временем он оценил уединённость и отсутствие отвлекающих факторов.
Он разложил папки на столе и начал методично просматривать содержимое. Стандартная процедура: проверить состояние документов, составить опись, отсканировать, создать электронную карточку с метаданными. Рутина, которую он мог выполнять практически на автопилоте.
Первые несколько папок не содержали ничего примечательного – отчёты о производственных показателях каких-то заводов, протоколы партийных собраний, статистические данные. Всё строго, формально, с печатями и подписями. Дмитрий работал методично, как часовой механизм – каждый документ в руки, быстрый анализ, сканирование, запись в электронный каталог.
Примерно к пяти часам вечера, когда большинство сотрудников начали собираться домой, он добрался до папки с надписью "17-А". Внутри была тонкая стопка листов, скреплённых металлической скрепкой. На первом листе стоял гриф "Совершенно секретно" и штамп "Особая папка".
"Докладная записка о мерах по ликвидации последствий Московского восстания (17-19 августа 1983 г.)" – гласил заголовок. Дмитрий перечитал его дважды, чувствуя, как что-то не складывается в его голове. Московское восстание? В 1983 году? Ничего подобного он никогда не слышал. Ни в университете, ни из книг по современной истории, ни из рассказов старших товарищей, заставших то время.
Он начал читать документ, чувствуя растущее недоумение:
"В ходе подавления массовых беспорядков, вызванных антиправительственными выступлениями на Пушкинской площади 17 августа 1983 г., силами МВД и КГБ СССР были предприняты следующие меры:
Оцепление центральных районов Москвы силами внутренних войск МВД
Задержание активных участников беспорядков (468 человек)
Введение комендантского часа с 22:00 до 6:00
Временное ограничение работы средств массовой информации
По предварительным данным, в результате столкновений погибло 26 гражданских лиц и 8 сотрудников правоохранительных органов. Ранения различной степени тяжести получили около 340 человек.
Основными очагами напряжённости стали:
Пушкинская площадь (первоначальный сбор)
Площадь Маяковского
Район Тверской улицы
Территория вокруг телецентра в Останкино
Ситуация осложнилась массовым распространением самиздатовских листовок и незаконным выходом в эфир нескольких радиопередач подрывного характера…"
Документ продолжался ещё на несколько страниц, с подробным перечислением мер "по нормализации обстановки" и "информационной работе с населением". В конце стояли подписи нескольких высокопоставленных чиновников КГБ и ЦК КПСС.
Дмитрий откинулся на спинку стула, чувствуя странную смесь замешательства и профессионального азарта. Он проработал в архиве пятнадцать лет и считал себя неплохим знатоком новейшей истории России. Но о "Московском восстании" 1983 года он никогда не слышал. Никогда.
Это могла быть фальшивка. Или какой-то сценарий, разработанный спецслужбами на случай массовых беспорядков. Или, что ещё более вероятно, документ из какой-то настольной игры или литературного проекта, который каким-то образом попал в архивы.
Он внимательно осмотрел бумагу, печати, подписи. Всё выглядело подлинным. Бумага того периода, шрифт пишущей машинки, характерный для документов КГБ тех лет, печати с соответствующей символикой. Если это подделка, то очень качественная.
Дмитрий перешёл ко второму документу в папке – это был список задержанных с указанием имён, дат рождения и предъявленных обвинений. Третий документ содержал перечень публикаций в иностранной прессе о событиях в Москве и рекомендации по противодействию "западной пропаганде".
Всё выглядело слишком детально, слишком связно для простой мистификации. И что самое странное – некоторые из упомянутых в документах людей были реальными историческими фигурами. Дмитрий узнал имена некоторых чиновников и диссидентов того периода.
Он посмотрел на часы – уже почти семь вечера. Архив опустел, только в дальнем конце зала горела лампа на столе пожилой сотрудницы Татьяны Павловны, которая, как и Дмитрий, часто задерживалась допоздна.
Он решил сделать перерыв, выпить кофе и обдумать находку. Документы казались настоящими, но описывали события, которых не было. Это было похоже на артефакт из параллельной вселенной, где история СССР пошла по другому пути.
"Интересно, что имел в виду Махов, говоря о 'необычном'? Именно это?" – подумал Дмитрий, наливая себе кофе из кофеварки. "И если да, то почему его это так беспокоит?"
Вернувшись к столу, он решил отсканировать документы, прежде чем решать, докладывать о них начальству или нет. Что-то подсказывало ему, что с этой находкой стоит разобраться самому, хотя бы для начала.
Пока работал сканер, Дмитрий открыл браузер и ввёл запрос: "Московское восстание 1983". Результаты поиска не содержали ничего похожего на описанные в документе события. Статьи о демонстрациях конца 80-х, материалы о событиях 1993 года, какие-то художественные произведения… Ничего о массовых беспорядках в Москве в 1983-м.
Он попробовал другие запросы: "беспорядки Москва август 1983", "столкновения на Пушкинской площади 1983", "жертвы подавления демонстрации Москва 1983". Ничего существенного.
Странное чувство охватило Дмитрия. Он был уверен, что о таком значительном событии – с десятками погибших, сотнями раненых – должны были сохраниться какие-то упоминания, даже если официальная пропаганда пыталась их скрыть. В конце 80-х, во время гласности, это наверняка всплыло бы. Но ничего подобного не было.
Сканер закончил работу. Дмитрий сохранил файлы на свою флешку, а затем, подумав, скопировал их и на личный email. Что-то подсказывало ему, что эти документы лучше иметь в нескольких копиях.
Он аккуратно вернул бумаги в папку и положил её в ящик стола. Решение доложить Махову он отложил до утра – сначала нужно было всё хорошенько обдумать.
Выйдя из здания архива, Дмитрий глубоко вдохнул вечерний воздух. Было начало сентября, и в Москве установилась та особенная погода, когда лето уже сдаёт позиции, но осень ещё не вступила в полные права. Воздух был прозрачным и прохладным, а небо – неестественно высоким и чистым.
Он решил пройтись пешком, чтобы проветрить голову. Мысли о странном документе не давали покоя. Как профессиональный архивариус, он встречал разные документы – секретные, противоречивые, шокирующие. Но никогда ещё ему не попадались официальные бумаги, описывающие события, которых не было.
Маршрут Дмитрия проходил через центр города. Не отдавая себе отчёта, он свернул на Тверскую улицу и вскоре вышел на Пушкинскую площадь – то самое место, которое упоминалось в документе как эпицентр несуществующего восстания.
Площадь жила своей обычной вечерней жизнью. Туристы фотографировались у памятника Пушкину, молодёжь сидела на скамейках, кто-то спешил в кино или ресторан. Ничто не напоминало о том, что здесь могли происходить кровавые столкновения.
И всё же, стоя посреди площади, Дмитрий вдруг испытал острое, неожиданное чувство дежавю. На мгновение ему показалось, что воздух наполнился запахом гари, а в шуме города ему почудились крики и звон разбитого стекла. Он моргнул, и наваждение исчезло.
"Слишком много работы и слишком мало сна," – подумал он, направляясь к метро. Но что-то внутри подсказывало: дело не в усталости. Эти ощущения были слишком яркими, слишком реальными для простого воображения.
Уже стоя на эскалаторе, спускающемся в подземку, Дмитрий решил, что завтра продолжит изучение папки "17-А". Что-то подсказывало ему, что эти документы – только верхушка айсберга, и под ними скрывается нечто гораздо более странное и тревожное.
"Если история – это то, что действительно было, то почему у меня такое чувство, будто я что-то забыл? Что-то важное, что было всегда, но вдруг исчезло?" – думал он, входя в вагон метро.
В ту ночь Дмитрию приснилась Пушкинская площадь, объятая огнём, и люди, бегущие от милицейских дубинок. Он проснулся в холодном поту, с твёрдой уверенностью, что видел не просто сон, а нечто большее. Словно обрывок воспоминания о чём-то, чего никогда не было. Или было, но каким-то образом исчезло из коллективной памяти.
Утро началось с неожиданного телефонного звонка. Дмитрий только успел выпить первую чашку кофе, когда его мобильный разразился пронзительной трелью.
– Черновик слушает, – ответил он, пытаясь прогнать остатки сна.
– Дмитрий Алексеевич, это Махов, – голос директора звучал напряжённо. – Ты уже в архиве?
– Нет, я дома. А что случилось?
– Не мог бы ты приехать пораньше? Есть… вопрос по тем документам, которые я тебе вчера передал.
Сердце Дмитрия пропустило удар. Неужели Махов каким-то образом узнал о найденном документе? Но как? Он ведь ещё не докладывал.
– Конечно, буду через час, – ответил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
– Жду, – коротко сказал Махов и отключился.
Дорога до архива показалась Дмитрию бесконечной. Он прокручивал в голове возможные сценарии предстоящего разговора. Может быть, Махов просто хочет узнать о ходе работы? Или всё-таки что-то знает о документе 17-А? И если знает, то почему это так важно?
Когда Дмитрий вошёл в кабинет директора, его удивило присутствие постороннего человека – высокого мужчины в строгом сером костюме, с военной выправкой и цепким взглядом.
– А, Черновик, заходи, – Махов выглядел нервным. – Познакомься, это Арсений Викторович Тимофеев из… – он замялся, – из министерства.
Тимофеев не сказал, из какого именно министерства, а просто коротко кивнул, оценивающе глядя на Дмитрия.
– Арсений Викторович интересуется теми документами, которые я вчера передал тебе на обработку, – продолжил Махов. – В частности, хотел бы знать, не нашёл ли ты чего-нибудь… необычного.
Дмитрий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что-то в этой ситуации было неправильным. Обычно запросы на поиск документов проходили через официальные каналы, с письменными заявками и формальными процедурами. А не так, с загадочными посетителями и нервными директорами.
– Я только начал обработку, – осторожно ответил Дмитрий. – Просмотрел примерно треть материалов. В основном это стандартные отчёты и протоколы.
– А что-нибудь о событиях августа 1983 года? – спросил Тимофеев, не сводя глаз с Дмитрия. – Что-нибудь о Москве?
Это был момент выбора. Дмитрий мог сказать правду – что нашёл странный документ о несуществующем восстании. Или солгать, выиграв время для самостоятельного расследования.
– Пока ничего примечательного об этом периоде не попадалось, – сказал он, удивляясь собственной решимости. – Но я ещё не всё просмотрел. Если найду что-то о августе 83-го, сразу доложу.
Тимофеев и Махов переглянулись. Во взгляде первого читалось недоверие, во взгляде второго – смесь облегчения и тревоги.
– Хорошо, – медленно произнёс Тимофеев. – Но имейте в виду, Дмитрий Алексеевич, эти документы имеют особое значение для национальной безопасности. Любая информация о них должна оставаться строго конфиденциальной.
– Разумеется, – кивнул Дмитрий. – Я понимаю важность секретности.
– Вот и отлично, – Тимофеев встал, давая понять, что разговор окончен. – Надеюсь на ваше благоразумие.
Когда Дмитрий вышел из кабинета, его руки слегка дрожали. Он только что солгал представителю каких-то серьёзных структур, и почему-то был уверен, что поступил правильно. Инстинкт самосохранения подсказывал, что документ "17-А" нужно держать в тайне, пока он не разберётся, что происходит.
Вернувшись к своему столу, Дмитрий первым делом проверил ящик, где оставил папку "17-А". К его удивлению и тревоге, папки там не было. Он быстро просмотрел все остальные ящики, затем стопки документов на столе – нигде.
"Неужели Тимофеев или Махов успели забрать её, пока я шёл от кабинета директора?" – мелькнула мысль. Но это казалось маловероятным – он потратил на дорогу не более двух минут.
Дмитрий попытался успокоиться. "Может быть, я сам переложил её куда-то вчера вечером и забыл? Или кто-то из уборщиков случайно сдвинул?"
Он методично обыскал всё рабочее место, заглянул под стол, проверил соседние столы, опросил коллег – никто не видел папку с маркировкой "17-А".
Паника начала подкатывать к горлу. Пропал документ особой важности, который искали люди из "министерства". И теперь Дмитрий не только солгал им, но и потерял предмет их интереса.
"Стоп," – сказал он себе. "У меня есть сканы. Файлы сохранены на флешке и в почте".
Он включил компьютер, вставил флешку и открыл папку с вчерашними сканами. К его ужасу, файлов с документами "17-А" там не оказалось. Дмитрий отчётливо помнил, как сохранял их, но теперь они исчезли, словно их никогда и не было.
С растущим чувством нереальности происходящего он открыл свою электронную почту. Писем, отправленных вчера вечером самому себе, не было. Он проверил папку "Отправленные" – пусто. Корзину – тоже ничего.
"Я схожу с ума? Или кто-то очень профессионально заметает следы?" – думал Дмитрий, откинувшись на спинку стула.
В этот момент его взгляд упал на стопку бумаг, только что принесённых из канцелярии. Сверху лежала служебная записка, датированная вчерашним числом. В ней говорилось о перераспределении обязанностей в связи с отпуском одного из сотрудников.
Ничего необычного, кроме одной детали – подпись. Документ был подписан "И.о. начальника отдела кадров Л.И. Бреславский".
Дмитрий похолодел. Лев Иосифович Бреславский, начальник отдела кадров архива, умер три года назад от инфаркта. Дмитрий хорошо помнил это – он сам был на похоронах.
Дрожащими руками он поднял трубку внутреннего телефона и набрал номер отдела кадров.
– Отдел кадров, Бреславский слушает, – раздался в трубке знакомый голос человека, которого, по всем законам реальности, не могло быть в живых.
Дмитрий медленно положил трубку, чувствуя, как мир вокруг него начинает терять стабильность. Что-то было категорически не так – либо с его памятью, либо с самой реальностью.
Он вспомнил слова из документа "17-А" о "массовом распространении самиздатовских листовок" во время несуществующего восстания 1983 года. В нижнем ящике стола у него хранилась старая папка с образцами самиздата 70-80-х годов, которую он собирал для своего небольшого исследования.
Дмитрий достал папку и начал перебирать содержимое. И тут же нашёл то, чего там быть не могло – листовку, озаглавленную "Вся правда о кровавом подавлении народного протеста в Москве". Внизу стояла дата: 20 августа 1983 года.
Текст листовки подробно описывал те же события, что и документ "17-А", но с противоположной точки зрения – как жестокое подавление мирной демонстрации. В конце был список погибших – имена, возраст, профессии.
Дмитрий точно знал, что никогда раньше не видел этой листовки в своей коллекции. Он знал каждый документ в этой папке, перечитывал их десятки раз. Этой листовки там не было. Не могло быть.
"Что происходит? Кто-то подбрасывает мне эти документы? Или…" – мысль была настолько дикой, что он не решался её сформулировать даже про себя. "Или история действительно меняется?"
Он спрятал листовку во внутренний карман пиджака. Потом, повинуясь внезапному импульсу, достал телефон и сфотографировал её – страница за страницей.
В этот момент к его столу подошла Татьяна Павловна, пожилая сотрудница архива.
– Дмитрий Алексеевич, вас там какая-то девушка спрашивает, – сказала она. – У входа стоит. Говорит, срочно нужно.
– Девушка? – удивился Дмитрий. – Какая?
– Молодая, симпатичная. Представилась Анной. Сказала, что по важному делу.
Дмитрий никаких Анн не знал, но после всех странностей этого утра решил, что это может быть как-то связано с происходящим.
– Спасибо, Татьяна Павловна, я сейчас подойду.
Он встал из-за стола, бросил последний взгляд на свой тихий архивный угол и направился к выходу, не подозревая, что больше никогда не вернётся сюда в качестве обычного архивариуса, озабоченного только каталогизацией прошлого. Потому что прошлое, как оказалось, не было таким уж надёжным и неизменным, как он привык думать.

Глава 2: "Несоответствия"
У входа в архив стояла молодая женщина лет двадцати пяти, с короткими тёмными волосами и внимательными серыми глазами. Она была одета просто, но со вкусом – тёмно-синее платье, светлый жакет, минимум украшений. В руках – небольшая папка с бумагами.
– Дмитрий Алексеевич? – спросила она, когда он приблизился.
– Да, это я, – ответил он, изучающе глядя на незнакомку. – А вы…?
– Анна Сергеевна Вырубова, – она протянула руку для рукопожатия. – Я новый сотрудник архива. Точнее, буду им с завтрашнего дня. Мне сказали, что вы введёте меня в курс дела.
Дмитрий пожал её руку, чувствуя лёгкое замешательство. Ему ничего не говорили о новой сотруднице, тем более о том, что он должен её чему-то обучать.
– Простите, но мне никто не сообщал…
– О, наверное, Сергей Петрович забыл вас предупредить, – легко сказала Анна. – Он сам сказал мне найти вас. Сейчас он разговаривает с каким-то важным человеком в костюме, я не стала мешать.
"Тимофеев всё ещё здесь," – подумал Дмитрий. Это добавляло ситуации странности.
– Что ж, раз Сергей Петрович так распорядился… – он всё ещё сомневался. – Давайте пройдём в читальный зал, там сейчас немноголюдно, сможем поговорить.
Читальный зал архива в это время суток был почти пуст – только пара аспирантов в дальнем углу что-то выписывали из старых документов. Дмитрий и Анна сели за свободный стол у окна.
– Так какой именно отдел вас интересует? – спросил Дмитрий, всё ещё не понимая, почему его назначили наставником.
– Тот же, где работаете вы, – Анна открыла свою папку и достала несколько документов. – Особые фонды, рассекреченные материалы. У меня есть опыт работы с подобными архивами, я раньше работала в Санкт-Петербурге.
Дмитрий просмотрел её документы – диплом исторического факультета МГУ, рекомендательные письма, копия приказа о приёме на работу, подписанная… Львом Иосифовичем Бреславским. Тем самым, который должен был быть мёртв уже три года.
– Всё в порядке? – спросила Анна, заметив его замешательство.
– Да, просто… – он поднял взгляд от бумаг. – Вы знакомы с Бреславским?
– С начальником отдела кадров? Да, он проводил собеседование. Очень педантичный человек, всё по пунктам расспрашивал.
Значит, она действительно общалась с Бреславским. С живым Бреславским. Который, по воспоминаниям Дмитрия, умер три года назад.
– А скажите, Анна Сергеевна, – осторожно начал он, – вы что-нибудь знаете о событиях августа 1983 года в Москве?
Она слегка нахмурилась, словно пытаясь вспомнить.
– Вы имеете в виду олимпийский бойкот? Нет, это было раньше… В 1983-м ничего особенного не припоминаю. А должна?
Дмитрий покачал головой.
– Нет, просто проверяю вашу осведомлённость в новейшей истории.
Она не знала о восстании. Как и все остальные. Как и сам Дмитрий до вчерашнего дня. Но теперь у него в кармане лежала листовка – вещественное доказательство события, которого не было. Или было, но каким-то образом исчезло из коллективной памяти.
– На чём вы специализировались в университете? – спросил он, меняя тему.
– История советского периода, особенно 70-80-е годы, – ответила Анна. – Моя дипломная работа была посвящена неофициальной культуре позднего СССР – самиздату, подпольным концертам, неформальным объединениям.
Это уже было интересно. Если кто-то и мог знать о подпольных листовках того периода, то именно такой специалист.
– Самиздат, говорите? – Дмитрий понизил голос. – У меня есть небольшая коллекция. Для исследовательских целей, конечно.