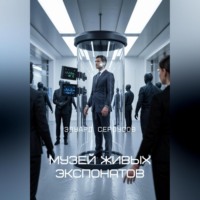Полная версия
Хроники несуществующего
Дмитрий задумался. Было ясно, что Махов знает больше, чем говорит. Возможно, он действительно пытался предупредить его, из личной симпатии или из каких-то других соображений. Но до конца доверять ему Дмитрий не мог.
Он решил использовать свободное время, чтобы узнать больше о профессоре Ландау. В интернете должна была быть информация об университетском профессоре, даже уволенном.
Дмитрий включил компьютер Виктора и начал поиск. Результаты были странными. Он нашёл несколько упоминаний о профессоре Игоре Марковиче Ландау – статьи в научных журналах по истории, список публикаций, фотографии с конференций. Но все эти материалы были датированы не позднее 2015 года. После этого – ничего, словно профессор исчез.
На сайте МГУ Дмитрий нашёл архивную страницу исторического факультета за 2015 год, где Ландау упоминался как профессор кафедры отечественной истории. Но в текущей версии сайта его имя отсутствовало, даже в списке бывших сотрудников.
Это напоминало ситуацию с Бреславским – человеком, который умер, но вдруг оказался жив. Только наоборот: Ландау был словно стёрт из официальных документов после 2015 года.
Дмитрий продолжил поиск и нашёл на одном из исторических форумов обсуждение книги Ландау "Переписанное прошлое: теория исторических манипуляций". Судя по комментариям, книга вызвала скандал в академических кругах и стала причиной увольнения профессора из университета.
Один из участников форума писал: "Ландау не просто теоретизировал о возможности манипуляций с историей – он прямо заявлял, что такие манипуляции происходят регулярно, и привёл конкретные примеры 'переписанных' событий. Неудивительно, что его убрали из университета. Удивительно, что его вообще печатали".
Дмитрий решил найти саму книгу. Поиск по онлайн-библиотекам и книжным магазинам не дал результатов – книга словно никогда не существовала. Это было странно, учитывая, что на форуме её активно обсуждали.
Он перешёл к поиску личной информации о Ландау. Социальные сети, личные страницы, контакты – ничего. Профессор был призраком в цифровом мире, как будто кто-то целенаправленно стирал информацию о нём.
Наконец, Дмитрий нашёл адрес. В старой статье местной газеты упоминалось, что профессор Ландау живёт в загородном доме в деревне Солнечное, примерно в 40 километрах от Москвы. Статья была посвящена открытию местной библиотеки, куда Ландау пожертвовал часть своей коллекции книг.
Дмитрий посмотрел на часы. Было только 11 утра, до встречи с "Хранителями" оставалось много времени. Он мог бы съездить в Солнечное, найти дом Ландау и поговорить с профессором напрямую. Возможно, Ландау знал больше о ордене и их планах на новую "перезагрузку".
Решение было принято быстро. Дмитрий записал адрес, собрал необходимые вещи и оставил записку Виктору, сообщив, что вернётся поздно вечером.
До Солнечного можно было добраться на электричке, а затем на местном автобусе. Дмитрий старался быть осторожным, часто оглядывался, проверяя, нет ли слежки. Несколько раз ему казалось, что он видит одни и те же лица в толпе, но, возможно, это была просто паранойя.
Солнечное оказалось типичной подмосковной деревней – несколько улиц с частными домами, небольшой магазин, автобусная остановка. Дмитрий спросил у местного жителя, где находится дом профессора Ландау.
– Ландау? – переспросил пожилой мужчина. – А, историк который? Его дом на окраине, по Лесной улице. Большой такой, деревянный, с мезонином. Но он там давно не живёт.
– Как не живёт? – удивился Дмитрий. – А где он?
– Не знаю, – пожал плечами мужчина. – Уехал куда-то год назад. Дом стоит пустой.
Дмитрий поблагодарил и направился к Лесной улице. Дом Ландау он узнал сразу – большой, добротный, с резными наличниками и мезонином. Но выглядел он не заброшенным, как говорил местный житель. Наоборот, во дворе была припаркована машина, из трубы шёл дым, на веранде сушилось бельё.
Дмитрий подошёл к калитке и позвонил. Через минуту на крыльцо вышел сам профессор Ландау – в домашнем свитере, с книгой в руке.
– Дмитрий Алексеевич! – воскликнул он, явно удивлённый. – Как вы меня нашли?
– По статье в местной газете, – ответил Дмитрий, проходя во двор. – Извините за неожиданный визит, но мне нужно с вами поговорить. Это срочно.
– Конечно, проходите, – Ландау жестом пригласил его в дом. – Только осторожнее, за вами могли следить.
– Я был очень осторожен, – заверил его Дмитрий. – Несколько раз менял транспорт, проверял, нет ли хвоста.
Они прошли в дом. Внутри было тепло и уютно – много книжных полок, старинная мебель, картины на стенах. Типичное жилище интеллигента старой формации.
– Чай, кофе? – предложил Ландау, проводя гостя в гостиную.
– Чай, если можно, – ответил Дмитрий, осматриваясь. – У вас прекрасный дом.
– Спасибо, – кивнул профессор. – Это родительский дом, я вырос здесь. Потом долго жил в Москве, а когда ушёл из университета, вернулся сюда. Тихо, спокойно, можно работать без отвлечений.
Он ушёл на кухню готовить чай, а Дмитрий тем временем рассматривал книги на полках. Большинство были по истории, философии, религии. Много старых изданий, некоторые на иностранных языках.
На одной из полок он заметил книгу с названием "Переписанное прошлое: теория исторических манипуляций". Автор – И.М. Ландау. Та самая книга, которую он не смог найти в интернете.
– Вижу, вы заметили мой главный труд, – сказал Ландау, возвращаясь с подносом. – Книга, которая стоила мне карьеры и репутации.
– Я искал её в интернете, но не нашёл, – сказал Дмитрий. – Как будто её никогда не существовало.
– Не удивительно, – Ландау поставил поднос на столик. – Орден очень тщательно убирает любые следы информации, которая может раскрыть их деятельность. Книгу изъяли из всех библиотек, удалили из каталогов, заблокировали в интернете. Осталось всего несколько экземпляров у частных лиц.
Он налил чай в чашки и сел в кресло напротив Дмитрия.
– Но вы пришли не за книгой, верно? Что случилось?
Дмитрий рассказал о всех событиях последних дней – о людях из "министерства", о исчезнувших фотографиях, о взломе его квартиры, о предупреждении Махова. И о звонке от таинственного Гордина, сообщившего о готовящейся "перезагрузке".
Ландау слушал внимательно, не перебивая. Когда Дмитрий закончил, профессор долго молчал, обдумывая услышанное.
– Всё серьёзнее, чем я предполагал, – сказал он наконец. – Если орден действительно готовит новую "перезагрузку", это объясняет их активность. Они зачищают любые потенциальные… помехи.
– Что именно они собираются "перезагружать"? – спросил Дмитрий.
– Трудно сказать наверняка, – Ландау встал и подошёл к книжной полке. – Но есть некоторые признаки, по которым можно догадаться. Видите ли, перед каждой "перезагрузкой" происходят характерные явления – учащаются случаи дежавю, люди начинают вспоминать события, которых "не было", появляются артефакты из "стёртых" временных линий.
Он достал с полки толстую папку и вернулся к столу.
– Я веду наблюдения уже много лет. Фиксирую аномалии, несоответствия, странные события. И в последние месяцы их количество резко возросло.
Ландау открыл папку и показал Дмитрию таблицы, графики, вырезки из газет, распечатки интернет-страниц.
– Смотрите, – он указал на график. – Это частота сообщений о необъяснимых исторических несоответствиях. Видите этот пик? Он начался примерно три месяца назад. Такой же пик был перед "перезагрузкой" 1991 года, когда изменили всю историю распада СССР.
– Подождите, – Дмитрий нахмурился. – Вы хотите сказать, что распад СССР произошёл не так, как мы помним?
– Именно, – кивнул Ландау. – В исходной временной линии всё было гораздо более… кроваво. Гражданская война, распад на множество враждующих государств, вмешательство внешних сил. Миллионы жертв. Орден "переписал" эту историю, создав более мягкий, контролируемый вариант распада.
– Но зачем? – спросил Дмитрий. – Какая им выгода?
– Стабильность, – ответил Ландау. – Орден считает себя хранителем исторического равновесия. Они не меняют историю произвольно. Они выбирают варианты, которые, по их мнению, обеспечивают наибольшую стабильность и наименьшее количество жертв.
Он перевернул страницу в папке.
– Вот ещё один признак готовящейся "перезагрузки" – появление в СМИ странных, противоречивых сообщений об одних и тех же событиях. Как будто разные версии реальности начинают просачиваться друг в друга.
Дмитрий вспомнил заголовок газеты, который менялся у него на глазах: "35 лет назад: как Москва помнит события августа 1983" превратилось в "35 лет назад: как Москва встречала олимпийских чемпионов".
– Я видел это, – сказал он. – Заголовок газеты менялся прямо передо мной.
– Это называется "темпоральная турбулентность", – кивнул Ландау. – Признак того, что реальность становится нестабильной. Обычно это происходит перед "перезагрузкой" или сразу после неё, пока новая версия истории не укоренилась полностью.
Он закрыл папку и посмотрел на Дмитрия.
– Но что именно они собираются менять сейчас, я не знаю. Возможно, какое-то недавнее событие, которое пошло не по их плану. Или, наоборот, что-то из далёкого прошлого, что влияет на текущую ситуацию.
– И мы ничего не можем сделать? – спросил Дмитрий. – Просто позволить им переписать историю, стереть память миллионов людей?
– Не совсем, – Ландау встал и подошёл к другой книжной полке. – Есть способы противостоять "перезагрузке". По крайней мере, для отдельных людей.
Он достал из-за книг небольшую деревянную шкатулку и вернулся к столу.
– Видите ли, Дмитрий, орден использует для "перезагрузки" артефакт, известный как Хрономирон. Это древнее устройство, находящееся на Соловецких островах. Но его действие не абсолютно. Есть люди, невосприимчивые к изменениям памяти, – "Неподдающиеся". И есть предметы, которые могут защитить от воздействия Хрономирона.
Он открыл шкатулку. Внутри лежали различные предметы – старинные монеты, медальоны, небольшие камни странной формы.
– Это амулеты защиты, – объяснил Ландау. – Артефакты, созданные давно забытыми технологиями. Они создают вокруг владельца своего рода… темпоральный кокон, защищающий от изменений реальности.
Он достал из шкатулки небольшой предмет, похожий на карманные часы, и протянул Дмитрию.
– Это хрономер. Древний артефакт, который не только защищает от "перезагрузки", но и позволяет видеть следы изменений в реальности. Он ваш.
Дмитрий взял предмет. Это действительно были карманные часы необычного дизайна – с множеством дополнительных циферблатов, стрелок и шкал. Корпус был сделан из странного металла, который казался то серебряным, то золотистым, в зависимости от угла зрения.
– Я не могу принять такую ценность, – сказал Дмитрий.
– Вы должны, – настаивал Ландау. – Вы уже вовлечены в это противостояние. Орден знает о вас, они не оставят вас в покое. Хрономер поможет вам защититься и, возможно, найти способ противостоять их планам.
Он показал, как открыть заднюю крышку часов.
– Смотрите, здесь инструкция. Очень древняя, на языке, который мало кто понимает сейчас. Но основные принципы работы я могу объяснить.
Следующий час Ландау посвятил объяснению принципов работы хрономера. Оказалось, что устройство могло не только показывать обычное время, но и фиксировать "темпоральные аномалии" – места, где реальность была нестабильна или подвергалась изменениям. Также хрономер мог создавать защитное поле, предохраняющее владельца от изменений памяти.
– Но помните, – предупредил Ландау, – защита не абсолютна. При сильном воздействии Хрономирона даже хрономер может не справиться. И его действие ограничено – он защищает только вас, не окружающих.
– Почему вы даёте его мне? – спросил Дмитрий. – Вы даже не знаете меня толком.
– Знаю достаточно, – улыбнулся Ландау. – Вы нашли документ 17-А и осознали его значимость. Вы не отмахнулись от несоответствий, не списали их на ошибку или галлюцинацию. Вы начали искать истину, несмотря на опасность. Это говорит о вас больше, чем десять лет знакомства.
Он серьёзно посмотрел на Дмитрия.
– К тому же, у меня есть свой хрономер. И у некоторых других "Хранителей" тоже. Нам нужны союзники, Дмитрий. Люди, готовые бороться за истинную историю, за право помнить то, что было на самом деле.
– Я не уверен, что гожусь на роль борца за историческую правду, – честно сказал Дмитрий. – Я просто архивариус, который случайно нашёл странный документ.
– Никаких случайностей не бывает, – покачал головой Ландау. – Особенно когда речь идёт о Хрономироне и его влиянии на реальность. Если вы нашли документ 17-А, значит, вы должны были его найти. Возможно, вы один из немногих, кто может что-то изменить.
Дмитрий задумался. Всё происходящее казалось абсурдным, невероятным. Тайный орден, манипулирующий историей. Древние артефакты, защищающие от изменений реальности. Готовящаяся "перезагрузка", которая может стереть или изменить воспоминания миллионов людей.
И всё же, факты говорили сами за себя. Документ о событии, которого "не было". Фотографии памятника, который "никогда не существовал". Живой человек, который должен был быть мёртв уже три года. Странные люди из "министерства", следящие за ним. Всё это складывалось в картину, которая, при всей своей фантастичности, выглядела пугающе логичной.
– Хорошо, – сказал он наконец. – Я буду помогать. Но что конкретно мы можем сделать? Как остановить "перезагрузку"?
– Есть несколько возможностей, – ответил Ландау. – Самая радикальная – физически помешать активации Хрономирона. Но для этого нужно попасть на Соловки, в самое сердце монастыря, где хранится артефакт. Это практически невозможно – орден контролирует доступ к острову и к монастырю.
– А другие варианты?
– Можно попытаться нейтрализовать эффект "перезагрузки", создав достаточно сильное контр-поле. Для этого нужно собрать вместе много "Неподдающихся" с хрономерами в момент активации Хрономирона. Но для начала нужно узнать, когда именно они планируют "перезагрузку" и что именно собираются менять.
Ландау посмотрел на часы.
– Уже поздно. Вам нужно идти, если вы хотите успеть на встречу с "Хранителями". Там вы узнаете больше. Встретите единомышленников, людей, которые, как и вы, заметили несоответствия в истории и решили действовать.
Дмитрий спрятал хрономер во внутренний карман пиджака и встал.
– Спасибо, профессор. За всё. За объяснения, за хрономер, за то, что поверили мне.
– Не за что, – улыбнулся Ландау. – Мы все в одной лодке, Дмитрий. Все, кто помнит то, чего "не было". Все, кто видит трещины в официальной версии истории.
Он проводил Дмитрия до калитки.
– Будьте осторожны. И помните – что бы ни случилось, какие бы изменения ни произошли в реальности, держитесь за свои воспоминания. Они – единственное, что у нас по-настоящему есть.
Дорога обратно в Москву прошла без происшествий. Дмитрий сидел в электричке, размышляя о разговоре с Ландау и о хрономере, который теперь лежал у него в кармане. Странное устройство периодически издавало тихое тиканье, словно реагируя на что-то, видимое только ему.
Дмитрий достал хрономер и открыл его. Основной циферблат показывал обычное время, но на дополнительных шкалах стрелки двигались странным образом – то замирали, то вдруг резко перескакивали, словно измеряли какие-то невидимые пульсации реальности.
Пожилая женщина, сидевшая напротив, с интересом посмотрела на необычные часы.
– Красивая вещь, – сказала она. – Старинная?
– Да, – ответил Дмитрий, пряча хрономер. – Семейная реликвия.
– У моего дедушки были похожие, – неожиданно сказала женщина. – Он называл их "часы правды". Говорил, что они показывают не только время, но и… как он выражался? "Колебания реальности". Мы, дети, думали, что дедушка просто фантазирует.
Дмитрий внимательно посмотрел на женщину. Возможно, её дедушка тоже был "Неподдающимся", обладателем хрономера.
– Ваш дедушка был историком? – спросил он.
– Нет, обычным инженером, – ответила женщина. – Но очень интересовался историей. Особенно… нестыковками, как он их называл. Случаями, когда официальная версия не совпадала с тем, что он помнил.
Она вдруг замолчала, словно испугавшись, что сказала слишком много.
– Но это всё старческие причуды были, конечно, – быстро добавила она. – Память у него к концу жизни стала подводить.
– Конечно, – согласился Дмитрий, понимая её осторожность. – С возрастом многие начинают путать, что было на самом деле, а что им только кажется.
Женщина кивнула, но в её глазах Дмитрий заметил что-то – словно молчаливое признание, что она не верит своим словам. Возможно, она тоже замечала исторические несоответствия, но боялась говорить об этом открыто.
В Москву Дмитрий прибыл около семи вечера. У него был ещё час до встречи с "Хранителями". Он решил перекусить в небольшом кафе недалеко от вокзала, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к предстоящему разговору.
Сидя за столиком у окна, он ещё раз просмотрел свои записи о ордене Хронографов и "перезагрузках" истории. Информации было много, но она была фрагментарной, не складывалась в полную картину. Дмитрий надеялся, что встреча с "Хранителями" прояснит ситуацию.
В 19:45 он расплатился и направился к книжному магазину "Хронос" на Малой Бронной. Название показалось ему символичным – тот же "Хронос", что и кафе, где они с Анной обсуждали исторические аномалии. Случайное совпадение? Или ещё один знак того, что всё происходящее неслучайно?
Магазин оказался небольшим, но уютным заведением, специализирующимся на исторической и философской литературе. Внутри пахло книгами, кофе и какими-то благовониями. За прилавком стоял молодой человек с аккуратной бородкой, в очках с круглыми стёклами – типичный интеллектуал-хипстер.
– Добрый вечер, – поздоровался Дмитрий. – У вас есть книга "Время и его тени" Вигена Арутюняна?
Молодой человек внимательно посмотрел на него.
– Как вас зовут? – спросил он.
– Дмитрий Черновик, – ответил Дмитрий.
– Одну минуту, – продавец достал телефон и кому-то позвонил. – Гость прибыл, – сказал он и отключился.
Через минуту из задней комнаты вышел человек средних лет, невысокий, плотный, с аккуратно подстриженной бородой и внимательными глазами за стёклами очков в тонкой оправе.
– Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич, – сказал он. – Я Михаил Гордин. Мы говорили по телефону. Пройдёмте, все уже собрались.
Он провёл Дмитрия через зал магазина к неприметной двери в задней стене. Дверь вела в узкий коридор, а оттуда – в просторную комнату, которая, судя по всему, служила складом и одновременно местом для встреч. Вдоль стен стояли коробки с книгами, в центре – большой стол, окружённый стульями. На столе – чайник, чашки, печенье.
За столом сидели несколько человек разного возраста – от студенческого до пенсионного. Дмитрий узнал Валентина Крылова, который приветственно кивнул ему.
– Друзья, – сказал Гордин, – это Дмитрий Алексеевич Черновик, архивариус, о котором рассказывал Валентин. Он нашёл документ 17-А и, возможно, стал свидетелем подготовки к новой "перезагрузке".
Все посмотрели на Дмитрия с интересом и лёгким удивлением, словно не ожидали увидеть такого обычного человека в роли обнаружителя исторических тайн.
– Присаживайтесь, Дмитрий, – Гордин указал на свободный стул. – Познакомьтесь с нашей группой.
Он представил всех присутствующих. Кроме Крылова, тут были: Елена Соколова, историк и специалист по древним рукописям; Игорь Верещагин, физик, изучающий временные аномалии; Александра Немчинова, журналистка, пишущая о исторических загадках; Олег Бахтин, бывший сотрудник спецслужб, а ныне частный детектив. И ещё несколько человек с разным профессиональным бэкграундом, но объединённых одним – все они заметили несоответствия в официальной версии истории и искали правду.
– Мы – "Хранители", – сказал Гордин, когда представления закончились. – Неофициальное сообщество людей, которые видят трещины в официальной версии истории и пытаются сохранить правду о прошлом, несмотря на все попытки её переписать.
Он сел рядом с Дмитрием.
– Валентин рассказал нам о вашей находке – документе о Московском восстании 1983 года. Это очень важное свидетельство. Один из немногих сохранившихся документов о событии, которое было "стёрто" из коллективной памяти.
– Но документ исчез, – сказал Дмитрий. – И все фотографии, которые я сделал, тоже.
– Ожидаемо, – кивнул Гордин. – Орден очень тщательно отслеживает такие "аномалии" и устраняет их. Но важно то, что вы его видели. Что помните его содержание.
– И что я теперь должен делать? – спросил Дмитрий.
– Для начала, – сказал Верещагин, физик, – расскажите нам всё, что помните о документе. Каждую деталь, каждое имя, каждую цифру. Мы запишем и сравним с другими свидетельствами, которые у нас есть.
Следующий час Дмитрий подробно рассказывал о документе 17-А, о своих разговорах с Ландау и Крыловым, о странных людях из "министерства", о исчезнувших фотографиях и поведении Махова. "Хранители" внимательно слушали, иногда задавая уточняющие вопросы, делая заметки.
Когда он закончил, в комнате наступила тишина. Все обдумывали услышанное.
– Это совпадает с нашими данными, – наконец сказал Гордин. – Орден действительно готовит новую "перезагрузку". И, судя по всему, она будет масштабной.
– Что именно они собираются менять? – спросил Дмитрий.
– Мы не знаем точно, – ответил Крылов. – Но есть признаки, указывающие на то, что речь идёт о совсем недавних событиях. Возможно, даже о тех, которые ещё не произошли.
– Как можно изменить то, чего ещё не было? – удивился Дмитрий.
– Хрономирон работает не только с прошлым, но и с будущим, – объяснил Верещагин. – Он может… как бы это сказать… предопределять события, направлять их в нужное русло. Создавать условия, при которых одни сценарии становятся более вероятными, чем другие.
– То есть они не просто переписывают историю, но и влияют на то, что только должно произойти? – Дмитрий был шокирован этой мыслью.
– Именно, – кивнул Верещагин. – Орден видит себя хранителем исторического равновесия. Они не просто реагируют на уже произошедшие события, но и пытаются предотвратить те, которые, по их мнению, могут нарушить стабильность.
– И как мы можем им помешать? – спросил Дмитрий.
– Для начала нужно узнать, что именно они планируют изменить, – сказал Бахтин, бывший сотрудник спецслужб. – Без этого знания любые наши действия будут наугад.
– У меня есть идея, – сказала Александра Немчинова, журналистка. – Если орден готовит "перезагрузку", они должны собирать информацию о событии, которое хотят изменить. Документы, свидетельства, анализы возможных последствий. Всё это должно где-то храниться.
– В их архиве, – кивнул Гордин. – Но проблема в том, что мы не знаем, где он находится. Орден очень тщательно скрывает свои базы.
– Возможно, я могу помочь, – неожиданно сказал Дмитрий. – Если эти люди, Тимофеев и его команда, действительно из ордена, то я могу проследить за ними. Они наверняка вернутся в архив, где я работаю. Может быть, удастся выяснить, куда они уезжают после.
– Это очень рискованно, – предупредил Крылов. – Если они заподозрят слежку, вы окажетесь в опасности.
– У меня есть хрономер, – сказал Дмитрий, доставая устройство. – Профессор Ландау дал его мне. Он сказал, что хрономер защитит меня от "перезагрузки" и поможет видеть следы изменений в реальности.
Все с интересом посмотрели на странные часы.
– Это очень редкий артефакт, – с уважением сказал Верещагин. – Старинный, возможно, даже довизантийской эпохи. Их очень мало сохранилось.
– У некоторых из нас тоже есть хрономеры, – сказал Гордин, доставая из кармана похожее устройство. – Они действительно помогают противостоять эффекту "перезагрузки". Но их защита не абсолютна. При прямом контакте с Хрономироном даже хрономер может не справиться.
Он серьёзно посмотрел на Дмитрия.
– Идея проследить за агентами ордена хороша, но очень опасна. Вы уверены, что готовы рискнуть?
Дмитрий задумался. Ещё неделю назад он был обычным архивариусом, занимающимся рутинной работой. Теперь он сидел в тайной комнате с группой людей, которые утверждали, что история регулярно переписывается, и обсуждал план слежки за агентами таинственного ордена.
Это казалось абсурдным, фантастическим. И всё же, все эти люди выглядели вменяемыми, разумными. Их рассказы, при всей своей невероятности, складывались в логичную картину. И самое главное – они объясняли странности, с которыми столкнулся сам Дмитрий.
– Я готов, – сказал он наконец. – Я уже вовлечён в это, хочу я того или нет. Орден знает обо мне, они следят за мной, проникают в мою квартиру. Лучше действовать, чем просто ждать, что они сделают дальше.
Гордин кивнул.