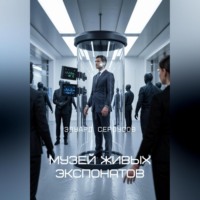Полная версия
Хроники несуществующего
– Правда? – глаза Анны загорелись. – Я бы очень хотела взглянуть.
Дмитрий колебался. Довериться незнакомому человеку в такой странной ситуации было рискованно. Но что-то в Анне вызывало у него доверие – может быть, искренний интерес к теме, может быть, профессиональный взгляд.
– Возможно, позже, – уклончиво ответил он. – Сначала нужно разобраться с текущими задачами. Кстати, о задачах – Сергей Петрович говорил вам, чем именно вы будете заниматься?
– В общих чертах, – кивнула Анна. – Каталогизация и оцифровка недавно рассекреченных документов. Он упомянул какой-то особый проект, но деталей не раскрыл.
"Особый проект" – эта фраза заставила Дмитрия насторожиться. Похоже, Махов специально направил Анну работать с теми же документами, что и он. Совпадение? Или способ установить наблюдение?
– Да, я как раз занимаюсь этим проектом, – сказал Дмитрий. – Большой объём работы, так что помощь не помешает.
В этот момент его телефон завибрировал – пришло сообщение. Дмитрий извинился и проверил экран. Текст был от неизвестного номера:
"Не доверяйте никому в архиве. Документ 17-А – ключ. Встретимся в 18:00 у памятника Пушкину. Приходите один."
Дмитрий почувствовал, как сердце забилось чаще. Кто-то знал о документе. Кто-то, кто не хотел раскрывать свою личность.
– Всё в порядке? – спросила Анна, заметив его реакцию.
– Да, просто… личное, – он убрал телефон. – Так на чём мы остановились?
Остаток встречи прошёл в обсуждении рабочих моментов. Дмитрий объяснил Анне базовые процедуры работы с архивными документами, показал, где находятся основные отделы. Всё это время он не мог отделаться от мысли, что за ним наблюдают. И что Анна могла быть частью этого наблюдения.
Когда они закончили, было уже почти пять часов вечера.
– Спасибо за введение в курс дела, Дмитрий Алексеевич, – сказала Анна, собирая свои бумаги. – Увидимся завтра, я приду к девяти.
– До завтра, – кивнул он, размышляя, стоит ли идти на таинственную встречу у памятника Пушкину.
Любопытство и желание разобраться в происходящем победили осторожность. Он решил пойти, но принять меры предосторожности.
Пушкинская площадь в вечерний час была полна людей. Дмитрий пришёл заранее, чтобы осмотреться и убедиться, что его не ждёт ловушка. Он несколько раз обошёл площадь, внимательно наблюдая за прохожими.
Ровно в шесть часов он встал у памятника, как было указано в сообщении. Прошло пять минут, десять, пятнадцать – никто не подходил к нему, не подавал знаков.
"Может, это просто чья-то шутка?" – подумал Дмитрий, начиная раздражаться. Он уже собирался уходить, когда заметил пожилого мужчину, который медленно приближался к памятнику. Мужчина был в потёртом плаще и старомодной шляпе, с тростью в руке. Несмотря на тёплую погоду, он выглядел так, словно оделся для поздней осени.
– Дмитрий Алексеевич Черновик? – спросил мужчина, остановившись рядом.
– Да, это я, – ответил Дмитрий настороженно. – А вы…?
– Меня зовут Игорь Маркович Ландау, – представился мужчина. – Я бывший профессор истории МГУ. Бывший, потому что меня уволили за… как они выразились, "псевдонаучные теории и дискредитацию исторической науки".
– И какие же теории привели к вашему увольнению? – спросил Дмитрий.
– Теории о том, что история – это не незыблемый факт, а изменчивая субстанция, – тихо ответил Ландау, оглядываясь по сторонам. – О том, что прошлое можно переписать не только в учебниках, но и в самой реальности. И о том, что это происходит регулярно, – он сделал паузу. – Вы нашли документ 17-А, не так ли?
Дмитрий вздрогнул.
– Откуда вы знаете?
– У меня есть свои источники в архиве, – уклончиво ответил Ландау. – Но сейчас не об этом. Нам нужно поговорить в более безопасном месте. За вами могут следить.
– Следить? Кто?
– Те, кто отвечает за сохранность официальной версии истории, – Ландау говорил серьёзно, без тени улыбки. – Те, кто не хочет, чтобы правда о "перезагрузках" стала известна.
– Перезагрузках? – Дмитрий начинал думать, что имеет дело с сумасшедшим.
– Именно так они это называют, – кивнул Ландау. – Пойдёмте, я знаю безопасное место недалеко отсюда.
Профессор повёл Дмитрия через лабиринт переулков в центре Москвы. Они петляли, несколько раз меняли направление, заходили во дворы и выходили через арки. Наконец, они остановились у неприметной двери в полуподвальное помещение.
– Это букинистический магазин моего старого друга, – объяснил Ландау, доставая ключ. – Он закрыт для посетителей по вечерам, но у меня есть доступ.
Внутри магазин оказался настоящим лабиринтом из книжных полок, заставленных старыми томами. Пахло пылью, кожаными переплётами и временем. Ландау провёл Дмитрия в дальнюю комнату, где стоял старый стол, несколько кресел и множество коробок с книгами.
– Присаживайтесь, – сказал профессор, указывая на кресло. – Хотите чаю?
– Нет, спасибо, – Дмитрий остался стоять. – Я хочу понять, что происходит. Кто вы на самом деле и что знаете о документе 17-А?
Ландау вздохнул и опустился в кресло, опираясь на трость.
– Я именно тот, за кого себя выдаю, Дмитрий Алексеевич. Историк, который слишком много узнал о природе истории, – он помолчал. – Документ, который вы нашли, описывает события, которых, по общему мнению, никогда не было. Московское восстание 1983 года – его нет в учебниках, о нём не пишут в статьях, его не помнят даже те, кто жил в то время. И всё же, документ существует. Как и другие следы тех событий.
– Какие ещё следы? – спросил Дмитрий.
– Артефакты памяти, – ответил Ландау. – Предметы, документы, фотографии, которые по какой-то причине не поддаются "перезагрузке". Которые сохраняют информацию о событиях, стёртых из коллективной памяти.
Он встал и подошёл к одной из коробок, стоявших у стены. Достал оттуда старый фотоальбом и положил перед Дмитрием.
– Посмотрите.
Дмитрий открыл альбом. На первой же странице была фотография, от которой у него перехватило дыхание. Снимок показывал Пушкинскую площадь, заполненную тысячами людей. Над толпой – плакаты с лозунгами: "Свободу политзаключённым!", "Долой цензуру!", "Правду народу!". По краям площади видны милицейские кордоны. Внизу подпись: "Москва, 17 августа 1983".
– Этого не может быть, – прошептал Дмитрий, перелистывая страницы. Фотографии показывали развитие событий – милиция, оттесняющая демонстрантов, летящие камни, горящие автомобили, людей, убегающих от дубинок.
– И тем не менее, это было, – твёрдо сказал Ландау. – Я сам там присутствовал. Был среди демонстрантов. Видел, как избивают людей, как стреляют резиновыми пулями. Слышал крики. Чувствовал запах слезоточивого газа.
– Но почему никто этого не помнит? – Дмитрий перевернул ещё одну страницу и увидел фотографию памятника. Простая стела с надписью: "В память о жертвах Московского восстания 1983 года". – И где этот памятник? Я никогда его не видел.
– Его снесли после "перезагрузки", – ответил Ландау. – Он стоял на Пушкинской площади всего три года, с 1990 по 1993. После того, как история была изменена, его просто не стало, как и воспоминаний о нём у большинства людей.
– Вы говорите о каком-то массовом стирании памяти? – недоверчиво спросил Дмитрий. – Это невозможно.
– Невозможно с точки зрения известной нам науки, – согласился Ландау. – Но факты говорят об обратном. События исчезают из истории, из памяти, из документов. Остаются только фрагменты, артефакты, не поддающиеся "перезагрузке". И люди с особым типом памяти, такие как я… и, возможно, вы.
– Я? При чём тут я?
– Вы нашли документ 17-А и осознали его значимость. Вы почувствовали несоответствие между официальной историей и свидетельством, которое держали в руках. Большинство людей просто проигнорировали бы это противоречие, списали бы на ошибку, подделку, сбой в системе каталогизации. Но не вы, – Ландау внимательно посмотрел на Дмитрия. – Что вы почувствовали, когда стояли вчера на Пушкинской площади?
Дмитрий вздрогнул. Откуда профессор знал, что он был там?
– Я… у меня было странное ощущение. Как будто дежавю. Словно я вспоминал что-то, чего никогда не видел.
– Именно, – кивнул Ландау. – Это память, которая пробивается через барьеры "перезагрузки". У некоторых людей она сильнее, чем у других. Таких называют "Неподдающимися" или "Хранителями". Они сохраняют фрагменты воспоминаний о стёртых событиях.
Дмитрий покачал головой.
– Всё это звучит как научная фантастика. Или как теория заговора.
– Я понимаю ваш скептицизм, – спокойно сказал Ландау. – На вашем месте я бы тоже не поверил. Но факты остаются фактами. Документ, который вы нашли, существует. Эти фотографии существуют. И есть ещё кое-что…
Он снова подошёл к коробке и достал оттуда старый блокнот.
– Это мой дневник тех лет. Я записывал всё, что происходило, сразу после событий. Даты, имена, места. Факты, которые теперь противоречат официальной истории.
Дмитрий взял блокнот и пролистал его. Записи были сделаны мелким, аккуратным почерком. Они подробно описывали события, предшествовавшие восстанию, сам протест и его подавление, последующие аресты и суды.
– И вы считаете, что кто-то намеренно стёр эти события из истории? – спросил Дмитрий. – Кто и зачем?
– Орден Хронографов, – ответил Ландау. – Тайная организация, существующая веками, задача которой – контролировать историю России путём периодических "перезагрузок" коллективной памяти.
Теперь Дмитрий был уверен, что разговаривает с сумасшедшим. Но логика событий последних двух дней подсказывала, что в словах старика может быть доля истины.
– И как, по-вашему, работают эти "перезагрузки"? – спросил он.
– Комбинация технологических средств и древних ритуалов, – ответил Ландау. – Я не знаю точного механизма. Знаю только, что они используют специальный артефакт, называемый Хрономироном, который находится на Соловецких островах. И что перезагрузки случаются в ключевые моменты истории. 1917, 1937, 1953, 1991… и, судя по всему, совсем недавно.
– Почему вы так считаете?
– Потому что появляются несоответствия. Артефакты памяти становятся более заметными. Люди начинают вспоминать обрывки "стёртых" событий. Реальность… нестабильна, – Ландау посмотрел Дмитрию прямо в глаза. – Вы сами заметили это, не так ли? Человек, который должен быть мёртв, вдруг оказывается жив. Документы появляются и исчезают. Воспоминания не соответствуют фактам.
Дмитрий вспомнил о Бреславском, о пропавшей папке, о странном дежавю на площади.
– Если всё, что вы говорите, правда… то что мне делать? – спросил он.
– Быть осторожным, – серьёзно ответил Ландау. – Они уже знают, что вы видели документ 17-А. Они будут следить за вами, пытаться понять, насколько много вы знаете и помните. Возможно, попытаются нейтрализовать вас.
– Нейтрализовать? Вы имеете в виду…
– Не обязательно физически, – покачал головой Ландау. – Скорее, дискредитировать, отстранить от работы, изолировать. Или провести локальную "перезагрузку" – заставить вас забыть о находке.
Дмитрий задумался. Всё это звучало как бред, но объясняло странности последних дней.
– Что вы предлагаете?
– Продолжайте работать как обычно, – сказал Ландау. – Не показывайте, что вы что-то знаете или подозреваете. Но будьте внимательны к несоответствиям – документам, которых не должно быть, воспоминаниям, которые противоречат фактам, людям, которые ведут себя странно. И документируйте всё, что найдёте, – он протянул Дмитрию небольшой предмет. – Вот, возьмите.
Это был старинный компас в латунном корпусе. Когда Дмитрий открыл его, стрелка начала беспорядочно вращаться, не указывая ни на север, ни на какое-либо другое направление.
– Он сломан? – спросил Дмитрий.
– Нет, он работает именно так, как должен, – улыбнулся Ландау. – Это особый компас. Он реагирует не на магнитные поля, а на… скажем так, на искажения в ткани реальности. Когда вы будете рядом с артефактом памяти или в месте, где происходила "перезагрузка", стрелка укажет вам путь.
Дмитрий скептически посмотрел на компас, но всё же положил его в карман.
– Я свяжусь с вами, когда будет нужно, – сказал Ландау, поднимаясь. – А теперь вам лучше идти. Не стоит оставаться в одном месте слишком долго.
– Как вы со мной свяжетесь? – спросил Дмитрий.
– Найду способ, – уклончиво ответил профессор. – И ещё кое-что… Будьте осторожны с новой сотрудницей, Анной Вырубовой. Я не уверен, на чьей она стороне.
Дмитрий вздрогнул.
– Откуда вы знаете про Анну?
– У меня свои источники, – повторил Ландау. – Идите. И помните – история не высечена в камне. Она написана на песке, и любая волна может смыть её и оставить новый узор.
Следующее утро началось для Дмитрия с тревожного сна, в котором он бродил по бесконечным архивным залам, пытаясь найти документ, название которого постоянно забывал. Он проснулся с ощущением неправильности мира, которое не покидало его с момента обнаружения странной папки.
В архив он пришёл раньше обычного, надеясь поработать до появления Анны. Но она уже была там – сидела за соседним столом, который раньше пустовал, и что-то сосредоточенно печатала на компьютере.
– Доброе утро, Дмитрий Алексеевич, – улыбнулась она. – Я решила прийти пораньше, чтобы освоиться.
– Доброе утро, – ответил он, незаметно изучая её. После предупреждения Ландау он не мог не задаваться вопросом, кем на самом деле была эта девушка.
Анна выглядела совершенно обычно – молодой специалист, начинающий карьеру. Никаких признаков того, что она может быть агентом какой-то тайной организации. Но если профессор прав, и существует группа людей, контролирующих историю, они вряд ли будут носить специальные значки или вести себя подозрительно.
– Сергей Петрович сказал, что я должна помогать вам с рассекреченными документами, – сказала Анна. – С чего начнём?
Дмитрий решил проверить её реакцию.
– Вообще-то у меня пропала одна из папок, которую я обрабатывал, – сказал он, наблюдая за выражением её лица. – С маркировкой 17-А. Не видели случайно?
Анна покачала головой.
– Нет, я только сегодня начала работать с документами. А что в этой папке?
– Ничего особенного, – пожал плечами Дмитрий. – Просто не хочется терять часть порученных материалов.
Он не заметил никакой особой реакции – ни нервозности, ни излишнего интереса. Либо Анна действительно не знала о документе, либо была очень хорошей актрисой.
– Давайте я помогу вам искать, – предложила она. – Четыре глаза лучше, чем два.
Они провели следующий час, просматривая стеллажи и ящики в поисках пропавшей папки. Дмитрий не ожидал, что они найдут её, но это был хороший способ понаблюдать за Анной в неформальной обстановке.
– Странно, – сказала она наконец. – Как будто папка просто испарилась. Может быть, её взял кто-то из руководства для проверки?
– Может быть, – согласился Дмитрий. – Хотя обычно они оставляют расписку.
В этот момент в зал вошёл Махов в сопровождении двух незнакомых мужчин в строгих костюмах. Один из них был примерно того же возраста, что и директор архива, другой – значительно моложе, с военной выправкой и холодным взглядом.
– А, Черновик, ты уже на месте, – сказал Махов, подходя к их столу. – Познакомься, это товарищи из… – он запнулся, – из министерства. Они интересуются теми же фондами, с которыми ты работаешь.
– Фёдор Игнатьевич Колесников, – представился старший, протягивая руку. – А это мой коллега, Антон.
Антон просто кивнул, не называя фамилии.
– Очень приятно, – сказал Дмитрий, пожимая руку Колесникова. – Дмитрий Алексеевич Черновик.
– Мы знаем, – улыбнулся Колесников. – Сергей Петрович много рассказывал о вас. Один из лучших специалистов архива, если я правильно понял.
– Он преувеличивает, – скромно ответил Дмитрий.
– Товарищи хотели бы ознакомиться с теми же документами, которые ты обрабатываешь, – сказал Махов. – Выдели им, пожалуйста, рабочее место и помоги с доступом к базам данных.
– Конечно, – кивнул Дмитрий. – А могу я поинтересоваться, какой именно период или тема вас интересует?
– Начало восьмидесятых, – ответил Колесников. – В частности, 1983 год. Август.
Дмитрий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Они искали то же самое, что и он. Документ о несуществующем восстании.
– Понятно, – сказал он спокойно. – У нас есть несколько фондов по этому периоду. Что именно вас интересует – экономика, культура, политика?
– Внутренняя политика, – уточнил Колесников. – Особенно всё, что касается общественных волнений, протестов, неофициальных организаций.
– Я могу помочь, – неожиданно вмешалась Анна. – Это была тема моей дипломной работы. Неформальные объединения позднего СССР.
Колесников внимательно посмотрел на неё.
– А вы…?
– Анна Сергеевна Вырубова, новый сотрудник архива, – представилась она. – Только вчера приступила к работе.
– Очень кстати, – улыбнулся Колесников, но его глаза остались холодными. – Будем рады вашей помощи.
– Ну, я вас оставлю, – сказал Махов. – Дмитрий Алексеевич, ты обеспечь товарищам всё необходимое.
Следующие несколько часов Дмитрий и Анна помогали "товарищам из министерства" с поиском документов. Колесников был вежлив, задавал конкретные вопросы, держался как профессиональный исследователь. Антон молчал, изредка делая заметки в небольшом блокноте.
Они просматривали те же фонды, с которыми работал Дмитрий, изучали те же каталоги. Но никто из них ни словом не упомянул папку 17-А или Московское восстание. Они искали что-то, не говоря прямо, что именно.
В обеденный перерыв Колесников и Антон ушли, сказав, что вернутся после обеда. Дмитрий и Анна остались одни.
– Странные эти товарищи из "министерства", – заметила Анна, когда они сидели в маленькой кухне для сотрудников. – Вы заметили, что у них нет никаких документов? Ни удостоверений, ни официальных запросов на доступ к архивам.
Дмитрий удивлённо посмотрел на неё.
– Вы правы. Я как-то не обратил внимания.
– И ещё кое-что, – продолжила она, понизив голос. – Младший, Антон, всё время смотрит на вас. Не просто так, а… изучающе. Как будто ждёт, что вы сделаете что-то определённое.
– Вы очень наблюдательны, – сказал Дмитрий.
– Профессиональная привычка, – пожала плечами Анна. – Когда изучаешь неофициальную культуру СССР, учишься замечать детали. Кто с кем разговаривает, кто кого избегает, кто нервничает при определённых темах.
Дмитрий решил рискнуть.
– И что вы заметили ещё?
Анна огляделась, убедилась, что они одни, и наклонилась ближе.
– Они ищут что-то конкретное. Что-то, о чём не хотят говорить прямо. И они знают, что вы имели с этим дело.
– С чего вы взяли?
– По тому, как Колесников отреагировал, когда вы спросили о конкретной теме. Он сразу уточнил про общественные волнения. И по тому, как этот Антон наблюдает за вашей реакцией на определённые документы.
Дмитрий задумался. Может быть, Анна действительно просто наблюдательный человек. Или она играет в какую-то свою игру.
– И что вы думаете об этом? – спросил он.
– Думаю, что происходит что-то странное, – ответила она. – И, похоже, вы знаете, что именно.
Он встретился с ней взглядом. В её глазах читался искренний интерес, но не угроза.
– Возможно, – уклончиво ответил Дмитрий. – Но сначала я должен во всём разобраться сам.
– Я могла бы помочь, – предложила Анна. – У меня есть опыт работы с неофициальными источниками. И я умею хранить секреты.
Дмитрий колебался. Довериться ей было рискованно. Но вести расследование в одиночку, когда за ним следят люди из загадочного "министерства", было ещё рискованнее.
– Возможно, – повторил он. – Но давайте вернёмся к работе. Наши "товарищи" скоро вернутся.
После обеда Колесников и Антон действительно вернулись, но вели себя немного иначе. Они меньше просматривали документы и больше наблюдали за работой Дмитрия и Анны. Несколько раз Дмитрий ловил на себе изучающий взгляд Антона, как и предупреждала Анна.
К концу рабочего дня Колесников объявил, что они закончили на сегодня, поблагодарил за помощь и сказал, что вернутся завтра для продолжения работы.
Когда они ушли, Анна повернулась к Дмитрию.
– Что вы делаете после работы? – спросила она.
– Обычно иду домой, – ответил он. – А что?
– Я подумала, может быть, мы могли бы выпить кофе и поговорить, – сказала она. – Не здесь, конечно. Где-нибудь, где нас никто не услышит.
Дмитрий задумался. С одной стороны, Ландау предупреждал его быть осторожным с Анной. С другой – она явно что-то подозревала и могла оказаться полезным союзником. Или она пыталась втереться в доверие по заданию тех самых людей, о которых говорил профессор.
– Хорошо, – решился он наконец. – Знаете кафе "Хронос" на Малой Бронной? Через час там?
– Договорились, – кивнула Анна. – Только давайте пойдём разными дорогами. На всякий случай.
Это укрепило подозрения Дмитрия. Либо она действительно понимала серьёзность ситуации, либо очень хорошо играла свою роль.
Кафе "Хронос" было маленьким, уютным заведением, спрятанным в полуподвале старинного дома. Дмитрий выбрал его не случайно – название показалось символичным, учитывая разговоры о манипуляциях со временем. К тому же, он знал, что там есть дальний зал, где можно поговорить без лишних ушей.
Он пришёл первым, выбрал столик в углу и заказал кофе. Через десять минут появилась Анна – она выглядела немного запыхавшейся, словно быстро шла или даже бежала.
– Извините за опоздание, – сказала она, садясь напротив. – Пришлось сделать крюк, чтобы убедиться, что за мной не следят.
– И как, следили? – спросил Дмитрий.
– Не уверена, – она покачала головой. – Был один подозрительный мужчина, который вышел из архива сразу после меня, но я потеряла его в метро.
Дмитрий кивнул официанту, и тот принёс второй кофе.
– Итак, – начал Дмитрий, когда они остались одни. – Что вы хотели обсудить?
– То, что происходит в архиве, – прямо сказала Анна. – Эти люди из "министерства", пропавшая папка, ваша явная настороженность… Что-то здесь не так, и я хочу знать, что именно.
– Почему вас это интересует? – спросил Дмитрий. – Вы только начали работу. Почему не просто делать своё дело и не задавать вопросов?
– Потому что я историк, – ответила она. – Настоящий историк, а не просто архивный работник. И если кто-то пытается что-то скрыть или изменить в нашем прошлом, я хочу знать об этом.
Дмитрий внимательно изучал её. В её словах чувствовалась искренность, но он всё ещё не был готов полностью довериться.
– Что если я скажу вам, что нашёл документ, описывающий событие, которого никогда не было? – осторожно начал он. – Событие, которое должно было перевернуть историю страны, но о котором никто не помнит и не знает?
– Я спрошу, какое именно событие, – ответила Анна.
– Московское восстание 1983 года, – сказал Дмитрий, наблюдая за её реакцией. – Массовые протесты на Пушкинской площади, их жестокое подавление, десятки погибших, сотни раненых.
Анна нахмурилась.
– Ничего подобного не было. Я изучала этот период очень подробно. В 1983 году не было никаких массовых протестов в Москве.
– Именно, – кивнул Дмитрий. – И тем не менее, я держал в руках официальный документ КГБ с грифом "Совершенно секретно", в котором подробно описывались меры по ликвидации последствий этого несуществующего восстания. С именами, датами, цифрами.
– Это могла быть фальшивка, – предположила Анна. – Или документ из какого-то сценария, игры, литературного проекта.
– Я профессиональный архивариус с пятнадцатилетним стажем, – напомнил Дмитрий. – Я могу отличить подлинный документ от подделки. Бумага, шрифт, печати, подписи – всё было настоящим. К тому же, – он достал из кармана телефон, – у меня есть ещё кое-что.
Он показал ей фотографии листовки, которую нашёл в своей коллекции самиздата.
– Это подлинная листовка августа 1983 года, рассказывающая о тех же событиях, но с точки зрения протестующих.
Анна внимательно изучала фотографии, её лицо становилось всё более озадаченным.
– Если это подделка, то невероятно качественная, – сказала она наконец. – Стиль, лексика, даже шрифт – всё соответствует самиздату того периода. Но как такое возможно? Как может существовать документальное свидетельство события, которого не было?
– Есть две возможности, – сказал Дмитрий. – Либо оно было, но каким-то образом исчезло из коллективной памяти и большинства документов. Либо… – он запнулся.
– Либо что?
– Либо это свидетельство из другой версии истории, – закончил он. – Из реальности, где это восстание действительно произошло.
Анна откинулась на спинку стула, осмысливая услышанное.
– Звучит как сюжет научно-фантастического романа, – сказала она. – Но… – она замолчала, словно вспомнив что-то.