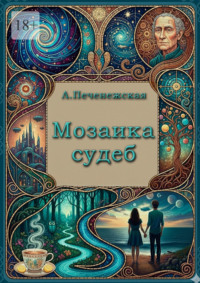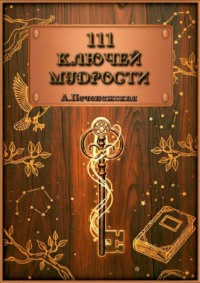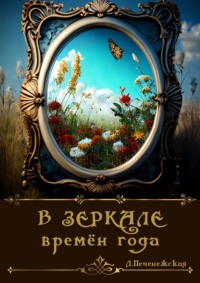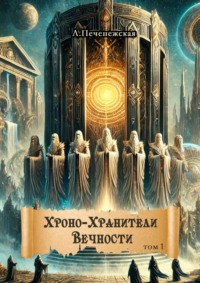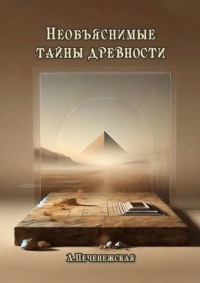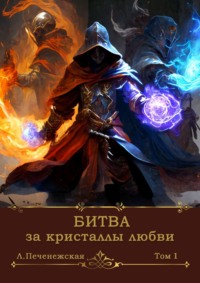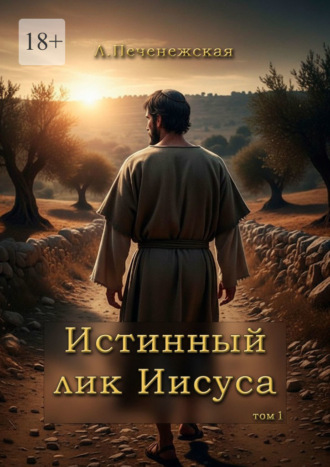
Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 1
Он не был распят, но ушёл один, тихо приняв стрелу не на кресте, а в лесу под деревом. И, казалось, время замерло, чтобы не потревожить этот уход. А позже сказали, что он вернётся, явится снова в другой форме, другой эпохе, но с той же сутью. И флейта прозвучала сквозь века и пустыню, отозвавшись внутри Помазанника дрожью в словах: «Это уже было во мне». Возможно, именно в этом узнавании открылся путь дальше: сквозь танец, безумие и границу, которая давно стёрлась между богом и человеком.
…
А теперь заглянем в Элладу, где виноград дичает на солнце и скалы хранят запах соли и дыма и где появился Дионис не как закон, а как смех, танец и разрушение порядка, чтобы вернуть живое в людях.
Его имя означает не покой, а огонь в крови. И позже именно из него возьмут вино, тело и идею страдания, которое разделяют. Он станет прообразом того, кто назовёт себя лозой. И каждый глоток, сделанный в память, будет отголоском этой первой чаши.
Рождённый от смертной и бога, Дионис был принесён в утробу второй раз в бедре Зевса. Поэтому считается, что он родился дважды из света, пепла и разорванной плоти. Его детство спрятано в глубине веков и окружено тайнами, а имя шептали на праздниках и в страхе.
Он пришёл с вином не как угощением, а как ключом, открывающим подлинное. Кто пил, сбрасывал маски, а кто отказывался, тот цеплялся за роль.
Дионис собирал вокруг себя не праведников, не чистых, а тех, кого не принимали: женщин, бедных и изгнанных, которые шли за ним, потому что в его безумии было освобождение.
Он входил в города не с мечом, а со смехом и громом. Иногда – в образе нищего, странника или юноши. Его не узнавали, над ним смеялись и прогоняли, пока не начинал говорить гром и вино не закипало в сосудах, стоящих на камне. Тогда лица бледнели и стены трещали. Его не узнавали, потому что смотрели наружу, но он не мстил, а раскрывал, что мир – это сцена и, если человек верит в свою роль, значит, он уже мёртв.
Словом, он приходил, чтобы сбросить ложное. И те, кто был с ним, ели его плоть и пили его кровь. Не буквально, но суть была та же: соединение через вкушение и жертву, в которую человек входит сам. Иногда те, кто любили его, становились руками разрушения в экстазе, крике и танце. Так ломают сосуд, чтобы достать вино, уничтожают образ, который стал слишком близким. И это не предательство, а невыносимая близость.
Позже это станет обрядом, ритуалом, таинством. И уже никто не вспомнит, что когда-то это было танцем в лесу, под луной, среди криков женщин и стука ног. Но вино останется, как чаша и тело, ставшее символом.
Он не учил, а размывал границы между плотью и светом, между богом и человеком. И в этом было движение, которое останется без имени, но с узнаваемой дрожью внутри: его след, тень и исток, ставший эхом в другом имени как ожидание и знакомая боль в груди.
Диониса убивали, расчленяли, разрывали и снова собирали, что станет знаком: смерть – не конец, если тебя помнят. И он воскресал не в теле, а пьянстве, экстазе, театре, безумии, голосе, забвении, соединении и тишине, где глаза закрыты, а тело забыто.
Он исчезал и снова возвращался: иногда в теле или крике, но всегда – в сердцах тех, кто звал, и каждый раз в новом обличье. Позже это станет образом, который повторят с другими словами, но тем же страхом и с той же надеждой.
Но потом наступила тишина, не пустая, но звенящая, словно кто-то долго держал дыхание не потому, что боялся, а потому что знал: слишком рано – и всё разрушится, а слишком поздно – всё умрёт.
Век за веком, в промежутке между тенями, мир как будто забыл, что кто-то ещё может прийти. Не было новых богов и откровений, а были только храмы, ставшие камнем, и голоса, что звучали всё тише. Это была не смерть мифа, а его ожидание.
Так бывает, когда вдох прячется перед словом, когда почва сохнет, прежде чем прольётся первый дождь и когда глаза уже смотрят, но пока не видят. Эта пауза была беременна светом, ибо в ней, как в утробе, зрело нечто, что не могло быть названо. Уже не образ, не бог, а Человек, который понесёт в себе всех, кто был до него не как цитату, а как кость в теле, как голос в горле и как любовь, у которой нет имени. Он станет дыханием, собранным веками, и придёт не с неба, а поднимется из памяти, из глубины, где имя было всегда, но без звука. И может быть… только может быть… поймут: Он не первый, а последний, тот, кто собрал всех предшествующих в себе, кто не требует имени, не нуждается в признании, а просто есть уже в каждом.
Глава 5. Тропа, вымощенная ожиданием: предсказанный или узнанный?
Перед тем как прозвучал голос последнего Мессии, мир молчал, но не безмолвствовал. В этом молчании был шелест пророчеств, написанных, повторяемых и вдыхаемых поколениями. Не сказания, а строки, но не как ясные предсказания, а как боль, обёрнутая в слова.
Люди не знали, когда он придёт. Они просто больше не могли выносить своё «сейчас» и потому из боли строили образы грядущего, рождая пророков, чьи голоса дрожали от страха и надежды.
Они не знали имени нового пророка, сына Давидова. Но знали, что он должен прийти, и потому вписывали в Писание не только волю Бога, но и тоску человеческую не о времени и о нём, а о себе. Так началась другая тропа к нему, но не из преданий, а из напряжения. Именно поэтому, когда он пришёл, его не узнали сразу, но узнали боль, с которой он заговорил.
Что ж, вопрос о пророчестве невозможно миновать, переходя от образа к сути: ведь без понимания его природы невозможно осознать, как и почему оно стало тропой к Мессии, который ещё не был назван. Это не чертёж времени, а напряжение души, которая не может иначе, поскольку реальность больше не даёт дышать. Поэтому человек говорит о будущем, но не чтобы угадать, а чтобы выжить. Так пророчество стало языком боли, стремящейся стать смыслом, попыткой удержать надежду, когда всё вокруг её теряет. Оно звучит не для того, чтобы исполниться, а чтобы удержать душу от разлома, стать словом, которое связывает рвущуюся ткань мира.
Пророчество не нисходит извне, ибо выносится изнутри, из глубин, где боль становится словом, а тоска – зовом, но не как откровение, а как неизбежность. Оно не рассказывает о грядущем, а называет суть настоящего, которую можно выразить просто: тоска по правде, которой не хватает. Поэтому пророчество говорит не о том, кто придёт, а о тех, кто не может больше терпеть несправедливость, поэтому оно и рождается как реакция, как отпечаток сердца, как линия трещины, из которой уже отражается свет.
Словом, пророчество – это не предсказание и не карта будущего, а крик настоящего, облечённый в образы. Да и пророчествует не тот, кто рассчитывает, а тот, кто не может молчать, смотрит на разрушенное и говорит: «Так быть не должно – значит, будет иначе». Это боль, говорящая языком будущего, потому что настоящее невыносимо, и которая облекается в образы: царь, грядущий на осле; свет, сияющий из темницы; страждущий, который страдает за других… Поэтому пророчество звучит в символах, ибо точность убивает надежду, а образ позволяет ей дышать. К тому же символ требует не логики, а сердца, отзываясь там, где разум ещё боится верить.
Помимо прочего, пророчество ещё и предполагает, что страдание всегда не бесцельно. Ведь самая великая жажда человека – не бессмертие, а смысл, без которого оно пытка. А смысл – даже в страдании – уже спасение. Вот почему пророчество рождается там, где боль невыносима. И хотя оно не дарит утешения, всё же даёт форму, говоря, что твоя боль не напрасна: кто-то её услышит, примет и сделает её своей. И это не обещание счастья, а согласие остаться, своеобразная клятва: «Я не оставлю твой крик в пустоте».
Иногда пророчество – это попытка придать очертания хаосу. Оно является не провидением, а жестом выживания: если назвать страх, он перестаёт быть безликим. Поэтому пророчество – это способ сказать: «Я ещё здесь. И я надеюсь», слово, удерживающее мир от падения.
…
Во многих древних культурах – Месопотамии, Израиле, Греции – будущее часто писали задним числом, но не чтобы обмануть, а чтобы объяснить. Великие события нуждались в отражении, а слово – в оправдании. Пророчества становились не окнами в грядущее, а зеркалами прошедшего, надписью: «мы видим в этом смысл – значит, оно было необходимо». Это делает пророчества не ложью, способом удержания ткани мира.
Историки знают, что многие пророчества оформлялись после событий, как если бы слово возвращалось, чтобы осветить уже случившееся: иногда как дополнение или новое чтение старого, но всегда попыткой осмыслить. И это надо воспринимать не как ложь, а как узнавание.
Когда происходило нечто великое, оно искало свои корни: и текст, созданный раньше, начинал звучать иначе, но не как подделка, а отклик. Человек, переживший великое, начинает оглядываться и говорить: «Оно было в нас, но мы не слышали».
Вот почему Писание – не просто книга, а хроника боли, ставшей образом. И когда пришёл Тот, Кто был узнан, не имя его подтвердило пророчества, а боль, которую он на себя принял. Он стал Словом не потому, что был предсказан, а потому что откликнулся на все голоса до него. Именно в этом отклике – суть Его связи с прошлым, но не формальной, а живой, поскольку он вместил в себя всю накопленную тоску, весь опыт ожидания и всю невыносимость молчания. Это ожидание и боль не висели в воздухе, а были вплетены в текст, в ту древнюю историческую ткань, которую мы называем Ветхим Заветом.
Он является не сводом законов и обрядов, а летописью боли, памятью изгнания: Вавилонского пленения, когда народ был уведён с земли обетованной и пел свои псалмы у чужих рек; угнетения при Антиохе IV, когда запретили соблюдать субботу, сожгли свитки Торы и принуждали есть запретное; разрушения Первого и Второго Храмов…
Ветхий Завет – это строки, в которых звучит голос тех, кто терял родину, близких и веру, но продолжал писать, кто прошёл через Маккавейские бунты, видел, как священное перерождалось в политическое, как вера становилась причиной для пыток. Кто слышал, как стены Иерихона падали, но позже сам оказался за стенами Вавилона; кто вспоминал, как народ, некогда водимый облаком и огнём, теперь блуждал среди идолов; кто знал времена тех судей, которые приходили и уходили, не оставляя после себя единства; кто жил при царях – Сауле, Давиде, Соломоне – и видел, как сила сменялась гордыней, а мудрость – падением; кто слушал пророков, что взывали к совести, но их голоса тонули в ритуалах и страхе перед властью, и понимал: ни один из них не смог удержать народ от распада.
Кто видел, как Завет разрывался не только при разрушении Храма, но в сердцах самих людей: когда закон превращался в формулу и суббота соблюдалась не ради покоя, а из страха быть побитым камнями; когда ритуал подменял живую связь в храме, где жертвы приносились по расписанию, но сердца оставались пустыми; когда вера становилась инструментом власти в союзе саддукеев с римлянами, а праведность измерялась близостью к первосвященнику; когда имя Бога – Яхве – произносилось не с благоговением, а как щит, за которым прятали жадность, презрение, страх перед переменой.
Когда обрезание становилось важнее сострадания, а праведность измерялась числом жертв, а не числом накормленных. Когда блудницу забивали камнями, а лжеца чествовали, потому что он знал, когда поклониться. Когда вдову выгоняли из двора за нарушение ритуальной чистоты, но богатого лицемера приглашали на праздник. Когда прокажённого отгоняли, не глядя в глаза, ибо закон использовался, чтобы исключать, а не исцелять. Когда слово «неприкасаемый» звучало чаще, чем «брат», а суд вершился не по совести, а по статусу. И, главное, самые громкие молитвы возносились теми, чьё сердце было глухо. Так Ветхий Завет терял силу не потому, что Бог отступал, а потому что человек, теряя живое, подменял его суть удобной формой, оставляя от него лишь скорлупу. И это всё – история невыносимой веры, а не просто историческая хроника, голос души, что снова и снова спрашивает: «Где Ты, если мы страдаем?»
В каждой книге – от Бытия до Плачей Иеремии – прорываются подобные вопросы. Через судьбу Авраама, к которому пришёл голос в пустоте, называющий себя Элохимом, Богом, невидимым, но несомненным. Этот голос не объяснял, он звал: «Уйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего – в землю, которую Я укажу тебе».
И Авраам покинул Харран, перешёл Евфрат, двинулся в Ханаан, ведомый не картой, а зовом. Он шёл по землям, где ещё не было имени для его народа, ставил шатры среди хананеев, копал колодцы, воздвигал жертвенники в Сихеме и Вефиле, но не чтобы обустроиться, а чтобы отметить шаги веры. Он искал не удобства, а место, где небесное слово укоренится в пыль, где невидимое станет делом, а Присутствие – ощутимым даже среди чужих.
Для него обетование было не просто обещанием потомства, а приглашением стать началом, но не народа, а пути, где Слово станет плотью в сыне, которого он ждал вопреки возрасту. Оно было народе, который ещё не существовал, но уже жил в его доверии, в каждом алтаре, где горел огонь без стен, а завет заключался без свидетелей.
Авраам не строил городов, а метил землю верой. У него не было ни войска, ни крепости, ни племени, способного защитить путь, а только слово в ночи: «в тебе благословятся все племена земли». Это был не договор, а доверие. Он не ведал, как, через кого, когда, но знал только одно: благословение пройдёт через боль, верность и поколение, которого ещё не было.
И это благословение, однажды начатое в одиночестве Авраама, не исчезло в песке времени. Оно искало путь и отразилось в судьбах тех, кто пришёл после.
…
Через исход Моисея, ведшего свой народ из Египта не только через десять казней, каждую из которых можно было прочесть не только как вызов фараону, но как удар по самому миропорядку, где рабство стало нормой, но и когда Нил, что кормил и поил, обратился в кровь: вода почернела, рыба погибла, царство задохнулось, и сама жизнь стала смертью.
Это была первая из десяти казней, о которых Моисей возвестил фараону по велению Бога. Услышав голос у горящего куста, он пришёл к властителю с просьбой: «Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне». Но у фараона сердце оказалось жестоким.
И с этого началось разрушение видимости прочного. Удары следовали один за другим – не как месть, а как обнажение: то, что держалось на страхе и силе, рушилось изнутри. Это было разоблачение порядка, построенного на порабощении. Более четырёхсот лет народ Израиля жил в Египте как рабы. И отказ фараона отпустить их стал не жестом власти, а продолжением насилия, ответом на которое стал распад иллюзий.
Кровь в Ниле явилась знаком: страдание больше невозможно игнорировать. Незабытая память о крови младенцев, некогда брошенных в воды по приказу фараона, словно поднялась из глубины. Река, хранившая молчание, теперь закричала, вернув боль.
Нил, почитаемый как бог, обернулся свидетельством суда. Его вода сделалась зловонной, смертной, как если бы сама земля отвергла ложь. Всё, что должно было давать жизнь, начало разрушать. И когда вода изменилась по слову Моисея, это стало знамением не силы, а напоминанием: власть, кажущаяся абсолютной, может рассыпаться.
И тогда лягушки, мошки и мухи наводнили дома, а язвы покрыли тела, уничтожив различие между дворцами и лачугами, град побил урожай, а саранча доела остатки… Тьма сгустилась над ослабевшим Египтом на три дня, «и никто не видел друга своего», как будто свет ушёл от земли, а последняя казнь – смерть первенцев – вошла в каждый дом, от дворца до хижины.
Это было не карой ради кары, а сдвигом: мир, построенный на унижении, не мог больше держаться. Иллюзии падали одна за другой, и порядок, в котором один народ господствовал над другим, треснул.
Моисей повёл народ не по собственной воле. Он услышал свыше: «Я увидел страдание народа Моего… и Я сошёл, чтобы избавить его». И вёл их не только через Чермное море, где «воды стояли стеной», но и через пустыню к Синаю, где прозвучало: «Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».
Это был путь не победы, а преобразования сквозь боль, голод, сомнение и отчаяние. Сквозь дни, когда падала манна, и ночи, когда звучал ропот недовольства. Сквозь мгновения, когда Бог казался далёким, а идол – ближе. Это была школа сердца. Слава не отменяла страха, а вера не обходила пустоту, поскольку всё проверялось в пути.
…
Прежде чем кто-то был узнан как Слово, звучали те, кто не знал его имени, но чувствовал – Сын Божий должен прийти. Исаия, Иеремия, Михей, Осия были не провидцами, не магами и не предсказателями, а людьми, внутри которых боль народа стала не голосом сверху, а эхом изнутри.
Исаия был голосом великого города, стоящего на краю падения. Он возвещал во времена осаждённого Иерусалима, когда Ассирия стояла у врат, а вера шаталась в сердцах. Его речь тянулась, как молитва – высокая, но уязвимая. Он взывал не к будущему, а к тому, что может удержать настоящее от распада. Позже в его строках услышат: «Вот Дева во чреве приимет и родит Сына…» как свет, пробивающийся сквозь дым. И ещё: «Отрасль от корня Иессея». Это было не пророчеством в прямом смысле, но образом: из почти угасшей линии Давида поднимется праведность, а не власть. Словом, то, что было последним дыханием надежды, которая отказывалась умереть, позже станет контуром для Христа.
Иеремию называли плачущим пророком не потому, что он оплакивал, а потому что кричал. Он видел, как Храм теряет святость, а народ бежит от истины в ритуал. Он обличал тех, кто притворялся, что всё хорошо, утверждая: «Они лечат рану народа Моего легкомысленно, говоря: „Мир, мир!“ – а мира нет». И это не про внешнюю угрозу, а про духовную ложь. Слово жгло его изнутри, но не как пророчество для других, а как пламя, от которого невозможно было укрыться: молчать было невыносимо, а говорить – ещё больнее. Он взывал к будущему царю: «Я восставлю Давиду отрасль праведную…» не в виде пророчества о личности, а как надежды на то, что правда снова обретёт плоть.
Михей пришёл с окраины: не из чертогов, а из деревенской тьмы. Знал голод и несправедливость, то, как судят не по правде, а по дару. Его слово било в гордость сильных, как молния – в камень. Он не пророчествовал о славе, но жаждал справедливости. Позже в его словах: «Ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными?» увидят указание на Мессию, потому что именно из Вифлеема, по позднейшему преданию, должен был прийти Тот, кто соединит царскую линию Давида с простотой народа, то есть малое должно было стать местом великого не по статусу, а по сути. Но для пророка это было болью: великое должно прийти из ничтожного, потому что только ничтожное по-настоящему ждёт. Он не искал власти, звал не к обряду, а к честности, к правде между человеком и Богом. Его голос – не трубы храма, а ветер полей, где мечтают не о триумфе, а о правде, вернувшейся на землю.
Осия не просто произносил, а проживал пророчество. Его жизнь стала притчей: по велению Бога он взял в жёны блудницу, чтобы телом своей судьбы показать, что Израиль изменяет Завету, но всё ещё любим. Его боль была не символом, а пережитым. В его словах: «Я исцелю отпадение их, возлюблю их по благоволению…» звучало не указание, а тоска по возвращению, обет не мести, а прощения. А дальше – сказанное не как указание на Мессию: «Возвратятся и взыщут Господа и Давида, царя своего», но как предчувствие, что верность всё ещё возможна. Позже в этих строках увидят Новый завет – не юридический, а сердечный, ибо его пророчество было о союзе, который разрывался болью, но не исчезал. И потому слово Осии останется в памяти народа не как свиток, а как зов, в котором ещё пульсирует прощение.
Все эти пророки были не провозвестниками будущего, а носителями боли настоящего. Их речь не строила схем, а раздвигала тьму. Они не называли грядущего по имени, но их слово звенело как ожидание, не знали, кого именно ждут, но их голос уже нёс Его дыхание – не из их откровений, а из развалин, где исчезала надежда.
Они возвещали не потому, что видели грядущее. Их глаза были обращены не вперёд, а в трещавшую от боли реальность. Это было время, когда бедные продавались за сандалии, вдовы выгонялись из домов за долги, а судьи брали мзду даже за хлеб; когда Храм стоял, но был пуст; когда священники говорили от имени Бога, но сами давно его не слышали; когда народ приносил жертвы не из веры, а из страха, и поклонение стало обрядом без дыхания.
Предшествующие пророки звучали, потому что ложь стала привычной, а боль – немой. Их речи не вели в завтра, потому что в него уже не верили. Их проникновенные слова удерживали остаток света в днях, которые разваливались, не позволяя людям исчезнуть в безразличии.
Их речи были не обещаниями, а воплями боли, не словами уверенности, а криками сердца. Их голос не возвещал грядущее, а сопротивлялся разложению нынешнего. Они н знали пути, но чувствовали черту, за которой продолжать как прежде – уже предательство.
Ни один из них не произносил имени грядущего Мессии, потому что оно ещё не было открыто. Но вся их речь была направлена в ту сторону, где однажды появится Тот, без Кого всё рушится. Не зная креста, не видя воскресения, они всё равно несли в себе тоску по Лику, который не могли описать, но чувствовали в крови истории.
Они не рисовали образа, но оставляли в слове разлом. Их речь, рожденная из боли, позже будет прочитана как пророчество. Слова Исаии о страдальце, «у которого не было вида и величия» и который понёс «на Себе наши болезни», позднее отнесённых к его книге, будут интерпретированы как прообраз Мессии, хотя сам Исаия, вероятно, говорил о своём народе или ближнем пророке. Но контур остался и стал узнаваемым, когда Слово вошло в плоть.
Иеремия говорил об «отрасли праведной» из дома Давида, надеясь на возвращение царя, который не будет лгать о мире, а принесёт правду. Он не строил образ личности, но взывал к справедливости, как к живому существу. Михей указывал на Вифлеем, но не как на место будущего события, а как на символ: там, где ничто не значило, и должен был начаться смысл. Осия звал народ назад – не к прошлому, а к сердцу Завета, где верность сильнее отступления.
Они касались того, чему не могли дать имени. Но позже – когда время стало искать отражения – эти слова зазвучали иначе. У пророков не было замысла о Христе, но в их душевных ранах проступал Лик. То, что они произносили как стон, было прочитано позже, как путь.
А после них наступила тишина. И не потому, что больше нечего было сказать, а потому что всё уже было сказано, но никто не пришёл. Остались только тьма, память и ожидание. В эту тьму последний Мессия и вошёл. Они не знали, как и когда он придёт. Их слова не описывали его портрет и были не предсказаниями, а прозрениями: кто-то должен был явиться, чтобы боль обрела плоть. И Помазанник не исполнил их пророчества, а вошёл в них не потому, что должен был, а по голосу, что звучал у руин Иерусалима, во тьме Синая, в утробе верности, забытой навсегда.
Глава 6. Когда не Он вошёл в Писание, а Писание – в Него
Последний Мессия не был записан ни в числах, ни в родословии, ни в формулировках пророчеств и не появился как выполненное обещание. Он был соткан из образов Агнца, Слуги, Царя, Отвергнутого и появился как совпадение с тем, что несло в себе боль, что веками стояло неразрешённым – и вдруг получило плоть. Ни имени, ни даты – только «Сын Человеческий», «Сын Божий», «Царь Иудейский». Он звучал символами вместо имени: страдающий, отверженный, воскресающий. Эти образы – не об Иисусе, ибо они были до него, но позже стали читаться как Он.
Новозаветные авторы не записывали биографию Иисуса. Они искали в его жизни подтверждение уже сказанному или предчувствию, которое ещё не имело формы. Матфей чаще всего ссылался на пророков: «да сбудется реченное через пророка», как будто сам текст Ветхого Завета продолжался через тело Мессии. Лука искал параллели в Писании между событиями жизни Иисуса и древними образами. Иоанн писал иначе. поскольку его слово не фиксировало факты, а вскрывало глубину: Слово было в начале, и это Слово стало плотью.
Всё, что происходило с Христом, сверялось с древними строками: рождение – с Михеем, вхождение в Иерусалим – с Захарией, цена предательства – с Иеремией и Псалтирью. Даже распятие и разделение одежды становились «исполнением», потому что всё, что было невыносимо, нуждалось в смысле.
Авторы Евангелий были не летописцами, а толкователями. Их вера читала прошлое вспять, и там, где боль совпадала с Писанием, они говорили: «Так должно было быть». Так пророчество становилось пророчеством не по хронологии, а по отклику. И сбывалось не потому, что было написано, а потому что внутри узнали: вот Он.
…
Поэтому Новый Завет они писали уже не из знания, а из потрясения и не составляли список совпадений, ибо искали, как удержать смысл, когда всё, что должно было спасти, оказалось распятым.