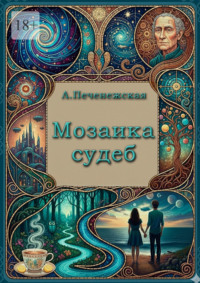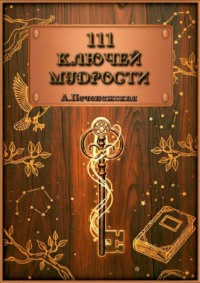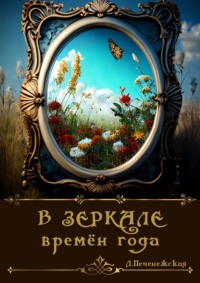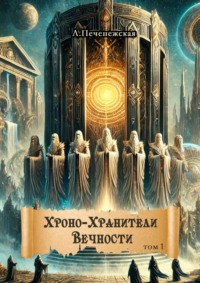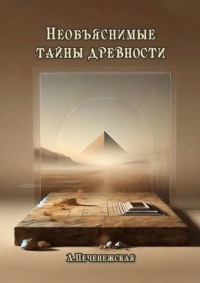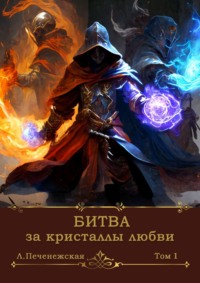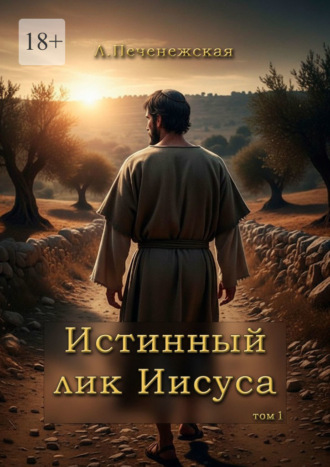
Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 1
Его учение не заключалось в проповедях, а в том, как он держал инструмент, как выравнивал камни, как поднимал взгляд, если что-то шло не так. Его руки пахли пылью, потом, известью и дымом очага. Он говорил редко, но в его молчании было больше устойчивости, чем в сотне речей. Его фигура по вечерам – силуэт на фоне огня, сгорбленный, уставший, но несломленный – запоминалась навсегда.
С женой он говорил мало. Но когда смотрел на неё, в глазах была благодарность. За тепло, за детей. За дом, где пахло лепёшками, а не горечью. Он не был героем, но был основой. Камнем, на котором стояла тишина семейной жизни.
Он редко проявлял нежность открыто, но именно он чинил треснувшую чашку, из которой пил сын, и без слов прикрывал жену плащом, если та засыпала у очага. Его любовь была в действиях: в заботе, в защите и в упрямом молчаливом труде.
Иногда он задерживал взгляд на лице младшего ребёнка чуть дольше – будто что-то в нём искал, но не знал, как назвать. Его пальцы переставали двигаться над кирпичом, когда с улицы доносился его детский смех. Он не поднимал голоса и когда говорил, даже сын замирал. Когда же уставшие руки отца касались его головы в знак одобрения, это был самый высокий знак признания.
А рядом всегда была мать. Та, чьи руки пахли тестом и золой, кто просыпалась раньше всех, чтобы разжечь очаг и засыпала позже, когда сын уже ровно дышал во сне. У неё не было нимба над головой, но был скромный плат на волосах и пальцы, потрескавшиеся от воды и жара, с лёгким белесым налётом муки.
Да, рядом была мать… Уставшая, но сильная. Ласковая, но с характером. Она умела месить тесто, лечить травами, гладить по голове и строго молчать, когда ребёнок делал что-то опасное. Она не умела читать, но знала наизусть молитвы. И в её сердце, может быть, звучало больше мудрости, чем в сотнях свитков.
Она не знала, какая судьба предначертана ее сыну. Но, прижимая его к себе, чувствовала – он другой. Тревожный, тихий, будто вслушивающийся в неведомое. Он плакал не капризно, а как будто пытаясь выразить то, что ещё не умел сказать словами, смотрел не как ребёнок, а как кто-то, кто уже много видел. Она гладила его волосы и шептала молитвы. Не пророчества, а просьбы: чтобы был здоров, счастлив и не был одинок. Она не называла его Мессией, просто «сыном». И в этом было всё.
…
Сегодня мы знаем её как Марию, и это имя стало символом. Но в её времени она была одной из многих. Мирьям – имя, которое носила каждая четвёртая женщина в Иудее. Ни письменных свидетельств, ни описаний её жизни не сохранилось. Только догадки, строки евангелий и образы, сложенные из мифов и веры. Она не оставила после себя истории. Только след любви. И, быть может, шрам на сердце после казни сына.
Учёные предполагают, что она была молода – возможно, едва достигла возраста, когда девушек выдавали замуж, что её брак с Иосифом, намного старше её, не был исключением, а частью обычая, что её жизнь была наполнена рутиной, тяжёлой работой и тишиной, в которой рос ребёнок, о будущем которого она не ведала.
Мирьям была женщиной, не ставшей святой в момент рождения сына, но просто живой. Настоящей. Той, которая укачивала младенца не в лучах славы, а в тени лампады, которая шила, стирала, слушала и ждала. Не героиня мифа, а усталая, нежная и тревожная.
Мы не знаем, какой она была, но можем представить. Глаза – с поволокой недосыпа. Тонкие черты лица. Черные волнистые волосы, выбивающиеся на висках из-под плата на голове. Руки – тёплые, с покрасневшими суставами. Сердце – трепетное и внимательное. Возможно, она чувствовала, что сын её – особенный. Не избранный богом, а особенный, с взглядом, от которого в груди что-то начинало дрожать. Мы решили оставить ей имя Мария. Не потому, что знаем точно, как её звали. А потому что миллионы женщин стали её отражением тех, кто молча любит, безымянно жертвует, невидимо держит дом и мир.
Ведь, как нам кажется, в её сердце жила вера. Не церковная, не ритуальная, а та, что приходит ночью, когда всё затихает. Вера, которую не нужно доказывать и которая звучит как шёпот: «Береги его, Господи…». Всё, что она могла – любить: не объясняя, не требуя, не ожидая славы.
О ней спорят тысячелетиями. Возвышают. Обожествляют. Но, возможно, именно это мешает нам увидеть её по-настоящему: женщину, которая рожала, боялась, не спала ночами и которая не спрашивала «почему я?», а просто обнимала сына. И ждала, а чего – не знала.
Именно она была его первым миром, теплом и первым богом, если угодно. Той, к кому он тянул руки, ещё не зная слов. Именно в её тени мальчик начал ощущать жизнь и, конечно, – любовь.
Вероятно, дом, в котором жила семья, был скромен, как и сотни других домов в тех краях. С глиняными стенами, низкими потолками, копотью от лампад на сводах. Он не был ни величественным, ни просторным, но имел то, чего часто не хватает дворцам – тепло, тишину и сопричастность.
Днём он открывался в шум улицы, ночью сохранял дыхание спящих тел. Он был частью той архитектуры, в которой каждый камень нес на себе отпечаток времени – трещины от землетрясений, следы от копоти жертвенных огней, царапины детских пальцев. Потолки опирались на деревянные балки, потемневшие от времени и дыма, а полы были утоптаны босыми ногами поколений.
На стенах висели связки трав, на скамьях стояли кувшины с водой, плетёные корзины, сосуды с маслом и скромной едой. В одном углу – углубление для огня, в другом – лежанка, укрытая стёртым одеялом. Лампа, чадящая на стене. Тканевые занавеси, отделяющие спальное место от остального пространства… И всё это – скромно, бедно, но не бездушно.
За дверью – обычная жизнь: старики, греющие кости на солнце, женщины с корзинами, торговцы, спорящие до хрипоты, дети, весёлые, чумазые, не вникающие в тяготы будней. Воздух пах ячменём, верблюжьей пропотевшей шерстью, дымом от хлебных печей.
Назарет тогда был не городом – селением. Несколько десятков домов, пыльные улочки, вокруг – холмы. Над головой – жаркое солнце, а по вечерам – тишина. Здесь не было роскоши. Но была простая, повторяющаяся, земная жизнь.
Поселение говорило на трёх языках – арамейском, греческом и латыни. Торговцы, воины, паломники, бедняки – их слова сливались в одно пёстрое многоголосие. Но за всем этим городским гомоном сердце этой галилейской земли оставалось усталым. Назарет не был столицей, не был даже значительным городом. Он был точкой на карте – пыльной, скромной, забытой. Но именно в этом месте, по предположению, жил тот, кто изменит ход истории.
Наверное, этот мальчик изначально был необычным. Можно предположить, что в нём было что-то сдержанное, внимательное, вбирающее. Он не перебивал, не суетился, не задавал вопросов, как другие дети. Но его глаза задерживались на людях чуть дольше, чем нужно. Он слушал не столько слова, сколько тишину между ними. Смотрел – и будто слышал не звук, а мысль. Не понимал, но чувствовал. Он не знал, к чему всё это, но где-то в глубине, в том месте, где ещё не было слов, уже звучал зов, как слабый звон, отзывающийся в самых тихих уголках души.
Он был частью этого дома, этой улицы, этой земли. И всё же – как будто готовился уйти. Хоть ещё и не знал куда. И, возможно, однажды, когда он уходил на рассвете, чтобы найти свою дорогу, именно мать стояла в тени дверного проёма, не сказав ни слова. Только смотрела. Долго. До тех пор, пока его фигура не растворилась в пыльной дали. И это прощание было самым долгим её словом любви.
Мы почти ничего не знаем о его детстве. Но можем предположить, что дом был наполнен не только молчанием и молитвами. Там звучали и другие голоса.
Семья, скорее всего, была большой. Таков был обычай иудейской традиции, где дети считались благословением, а многодетность – исполнением Завета. В Евангелии от Марка упомянуты братья: Иаков, Иосия, Иуда, Симон. Также говорится и о сёстрах – без имён, но во множественном числе.
Католическая традиция считает их двоюродными. Православие – детьми Иосифа от первого брака. Протестанты – братьями по крови. Но вне зависимости от трактовки, очевидно: Йешуа не рос в одиночестве.
Дом был наполнен многими голосами. Кто-то спорил, кто-то смеялся, кто-то прятал слёзы. Старшие дети, вероятно, помогали по хозяйству, младшие путались под ногами. Мария хлопотала по хозяйству, а Иосиф в тени своей мастерской учил не только последнего сына, но и тех, кто родился до него.
Это была не сцена из иконы «Святое семейство». Это была семья с её суетой, заботами, усталостью и теплом в отношениях. И среди всех – мальчик, чьё имя было Йешуа. Не Иисус, не Мессия. Просто Йешуа, пока ещё не отделённый светом от остальных.
Он рос в этом доме – среди запаха свежей выпечки, стука молотка по камню, шепота молитв на рассвете. Мир был прост и ритмичен, как дыхание: солнце поднималось над холмами, женщины стирали у ручья, старики рассуждали о пророках и налогах, дети учились различать звуки чужих языков. Всё было как у всех, но у него внутри всё звучало иначе.
Он не умел ещё назвать это словами, но время от времени в нём возникало странное чувство: будто за этой пыльной реальностью прячется нечто… иное. Не чудо или знак, а вопрос. Он приходил внезапно в тишине между голосами, в паузе между шумом улиц и сном. Что-то подсказывало: жизнь – больше, чем повседневность. И, может быть, однажды он научится слышать её по-настоящему.
Иногда он просыпался до зари и долго лежал, глядя в потолок, как будто ждал – не голоса, а касания смысла. Его не влекли игрушки, он не рвался в шумные игры, но мог подолгу наблюдать за каплей, стекающей по глиняной стене, или слушать, как ветер путается в кустах у дома. Он не был странным, просто – внимательным.
Слова он чувствовал прежде, чем понимал. Слово матери, произнесённое с любовью, согревало его дольше, чем огонь в очаге. Шорох ткани, когда она накрывала его ночью, был для него молитвой без слов. Мир говорил с ним не напрямую, а через запахи, звуки, прикосновения. Он впитывал всё, будто знал: когда-нибудь всё это станет Словом.
А пока он просто жил. Тихо. Глубоко. С ощущением, будто каждый его день – приглашение услышать то, что ускользает от других. Будто весь мир – это притча, которая ждёт того, кто научится её читать между строк и понесет в мир.
Но чем ярче становилась его способность чувствовать, тем резче становился контраст между тем, что он ощущал, и тем, что видел вокруг. Он слышал рассказы о справедливости – и видел, как на улице римские солдаты безнаказанно избивают нищих. Иногда он прятался за глиняной стеной и смотрел – не моргая, до боли в глазах, – как палка срывается с руки на чужую спину, рассекая на ней кожу в кровь. Слышал молитвы о мире – и ощущал страх, витавший в глазах женщин, прячущих детей при звуке железных подошв по камню. В доме говорили о доброте, но на базаре дети дрались за кусок хлеба, а торговцы обвешивали вдов, кидая им резкие слова. В синагоге учили чтить Закон, но тот оборачивался молчанием, когда бедняки просили защиты, и почему-то всегда был на стороне богатых. Его учили верить в свет, но улицы шептали о тьме.
И тогда в нём впервые возникло молчаливое, почти детское недоумение: почему всё не так, как должно быть? Почему зло правит миром, а добро – всегда жертва? Почему Бог молчит, когда его зовут? Почему правда хрупче камня, а ложь звучит громче неё?
Это была его первая трещина – не в вере, но в восприятии окружающего мира. Она отзывалась в нём странным холодом под рёбрами, как будто мир перестал быть домом и стал лабиринтом. Он чувствовал не злость и не разочарование, а что-то более глубокое: боль за тех, кто страдал, и непонятную вину за то, что он – лишь свидетель.
Йешуа не мог тогда выразить это словами, но сердце уже знало: жить – значит чувствовать рану мира как свою. Он не отвергал его, он просто не мог объяснить. И это непонимание не сломало, а оживило в нём то самое чувство, что всё настоящее – всегда сокрыто. Что правда – глубже слов, а свет – пронзительнее молитв.
Он ещё не знал, что станет говорить, не ведал, кто он. Но что-то в нём уже зрело: нечто безымянное, но острое, как первое пробуждение внутреннего огня.
Пока мир ждал знамения, он просто вглядывался в него как в загадку. И, может быть, именно тогда, в этом безмолвном диалоге с болью и несправедливостью, начало формироваться Слово, которое однажды изменит мир.
А когда он стал говорить – не в доме, а на улицах, у воды, среди людей – отца уже не было рядом. В Евангелиях звучат голоса братьев, упоминается мать, но имя Иосифа замолкает. Вероятно, он ушёл тихо, как жил. Без громких слов, без следа на страницах.
И это тоже стало частью его пути: без отцовской руки на плече, без взгляда, одобряющего или сдерживающего. Но с памятью, прочно отлитой в сердце – как камень, который он когда-то резал. Простой, земной, но крепкий. Такой, на который можно опереться даже спустя годы.
Глава 4. Те, кто были до Него
Задолго до того, как небо над Вифлеемом впервые дрогнуло от света новой звезды, мир уже слышал голос Пришедшего. Не в одном лице. Не на одном языке. А как эхо в усталых глазах пророков, в пепле сожжённых городов, в песнях, что распевали матери у колыбелей. Этот голос жил в каждом, кто до Него шагал по земле с раной в груди и светом в глазах.
До Него были и другие. Образы, которые звучали предчувствием не как пророки, а как эскизы, не как истины, а как попытки вспомнить её.
Первым был Гор. Если внимательно всмотреться в самые древние росписи на камне, в мифы, вписанные в стены гробниц, увидим его: сына Осириса и Исиды, рождённый не как плоть, а как восстановление, когда отец был уже мёртв.
Египет – земля рек и храмов, где вечность писалась на камне, а смерть – был только вратами. Там, где каждый восход солнца был повторением акта творения, Гор появился как обещание: тьма не навсегда.
Представьте: сумерки на берегах Нила, тени храмов на песке, ароматы мирры и кедра… Воздух дрожит от молитв, но сами молитвы звучат как просьбы к памяти: «не забудь нас».
Ему поклонялись не как царю, а как живому символу воскрешения. Его глаза – зеркала, в которых прошлое переставало быть страхом. В росписях гробниц крылья Гора обнимали умирающих, обещая: смерть – лишь мост, не тупик.
…
А дальше – Митра. Если Египет говорил сквозь свет и гробницы, то земля Митры молчала. Древние иранские горы, где камень учил действию, а истина рождалась не в слове, а в жертве.
В пещерах древнего Ирана, среди камня и ритуального мрака, он родился не как плоть, а как воля. Рождённый из камня, как будто не из тела, а из самой сущности действия. Ему служили воины и хранители тайны. В пещерах, где свет пробивался сквозь трещины, он проливал кровь быка, жертвуя силой ради нового цикла. Стены этих пещер, исписанные символами, словно шептали: «порядок рождается из жертвы».
Его знали по молчанию, взгляду и ритуалу, в котором скрыта космогония. Он пришёл не учить, а напомнить, что знание – это не текст, а действие.
…
Дальше – Кришна. Не во тьме, не в тишине, а в свете, который играет. Индия не прятала богов – она вплетала их в своё тело. И он не снизошёл, а родился, как если бы Суть решила впервые – смеяться.
Кришна был не только играющим на флейте богом, но и проводником сквозь войны и сомнения. Он вёл Арджуну не к победе, а к осознанию. Его речь была не приказом, а пробуждением. Он не требовал веры, ибо она рождалась сама в тишине между словами, а раскрывал суть. Когда же молчал, молчание было громче любой истины.
…
И, наконец, Дионис. Не как бог – как огонь, как смех, врывающийся в порядок, как крик, в котором звучала свобода. Эллинская земля знала не только философов, но и безумцев. Там, где лозы впитывают солнце, а трагедия становится песней, где праздник – это не веселье, а откровение, и слово не говорится, а выдыхается, где ветер не дует, а уносит имя, родился он, не чтобы научить, а чтобы сорвать покровы.
Дионис, танцующий на грани, несущий экстаз и забвение, но вместе с тем – истину, которую не выдерживает рассудок… Вино, что он приносил, было не для опьянения, а для сброса масок. Он приходил не разрушать, а освобождать, а еще напомнить: божественное не всегда строго, поскольку порой оно безумно, но искренне.
…
Все эти образы – не легенды, а притчи, рассказанные временем. Каждый – не пророк, а проба пера на черновике вечности. А может, эскиз.
А в нём, Помазаннике, линии обрели плоть, и он стал живописью, не кистью нарисованной, а кровью, тишиной и плотью.
Когда пришёл, он не начал, а завершил не точкой, а вздохом, в который слились все звуки, звучавшие до него. Не отменил, а собрал. Его тело стало холстом, на котором древние сюжеты обрели плоть. Жесты – узнаваемы, боль – предсказуема, путь повторён, но стал человеческим с болью, пылью на ногах, голосом, звучащим не с небес, а изнутри.
Но прежде чем заглянуть ему в глаза, стоит закрыть свои и вспомнить всех, кто искал Истину до него.
Потому что без них не понять, откуда взялась та тишина, с которой он вошёл в наш мир, и почему правда, что была в нём, не заговорила, а прозвучала.
Иногда мальчик слышал шёпоты: Гор боролся не просто за месть – он сражался за правду, нарушенную убийством отца. Он не воскресил Осириса, но, собрав его растерзанное те́ло, отданное на поругание братом Сетом, вернул ему це́лость и достоинство в вечной жизни. Сета не проклинали – его силу признавали, ибо он был частью мироздания, но его гнев укротили, чтобы восторжествовал порядок.
И позже, когда предательство войдёт в Писание, когда один из близких поцелует и продаст, тень Сета поднимется снова в новом имени и новом времени, но с тем же шепотом за спиной: «свой – стал оружием».
Так складывались контуры: из древнего песка, запахов и шёпотов. То, что было – не исчезло, ибо вплелось, легло в основание и ждало, пока кто-то узнает его в новом лице. И когда свет начнёт прорываться снова – через тело, голос и смерть – он будет не новым, а узнаваемым.
Представьте вечер, тянущийся над Нилом, словно золотая ткань, воздух густой, пахнет тмином и зноем. В тени храмов глиняные чаши, наполненные маслом, дрожат огоньками, как звёзды, спустившиеся на землю.
Женщина поёт шепотом ребёнку колыбельную. В ней звучит не только нежность, но древний страх: «вернись живым», потому что здесь, в земле, где боги рождаются после смерти, всё хрупко, даже свет.
На стенах – изображение Гора с ястребиным лицом и расправленными крыльями, который не смотрит на зрителя, а – над страданием, телом и смертью. Перенесемся на миг в то далекое время: вот священник водит пальцем по рельефу. Мальчик, стоящий рядом, замирает, но ему не страшно, поскольку что-то внутри него знает этот взгляд, как будто он уже видел его в себе. Возможно, в снах или паузах между дыханием… как будто это было частью его собственной памяти, давно забытой, но живущей в крови.
Позже он спросил у священника: почему Гор родился, когда отца уже не было в живых? И как могла Исида – не просто женщина, а воплощение небесного – зачать сына не от тела, а от света? Как будто сам воздух, сама молитва стали семенем. Но ответа не получил, только кивок как знак: «ты сам знаешь». И, может быть, ты уже был там.
И когда позже кто-то услышит о том, как некто родился от девы, зачавшей по воле божества, в его сердце отзовётся древний, как сам мир, мотив: смутная память о божественном младенце, чьё рождение было чудом, предвещающим спасение. А если речь зайдёт о воскресении, душа вспомнит иной, ещё более древний сюжет – не о сыне, воскрешающем отца, а о боге, который сам был растерзан и собран вновь, чтобы стать владыкой царства мёртвых и символом вечной жизни, мостом через бездну небытия.
Эти образы, проступающие, как рисунки на стенах забытых храмов, говорят об одном: надежда на победу над смертью родилась не вчера. Она жила в людях всегда, потому что Гор – был первым, кто воскрес не для себя, а ради других. И это останется, всплывёт и будет переписано многократно, страстно, под именами других. Оно станет доктриной и догмой. Его боль перепишут на другого, сделав частью чужого подвига. Его раны вложат в иное тело. Его страдание – объявят новым, хотя оно уже было. Его воскресение – выдадут за чьё-то иное. Но память останется в крови.
…
А дальше, как будто шаг в сторону: не отречение, а новый поворот. Ночь, наступающая в пустыне как внутреннее забвение. Тишина, в которой слышно, как пульсирует кровь.
Митра. Не человек, а намерение. Его появление было не как рождение, а словно внезапное присутствие: казалось, он был всегда, но лишь сейчас стал видим.
Сказано было: он родился из камня 25 декабря, в самый короткий день, когда тьма кажется вечной. Не от женщины, не во плоти, а из самой земли, как искра, выбитая из скалы. Его увидели пастухи. Не жрецы, не правители, а те, кто жил ближе к ночи и небу. Именно они и стали первыми свидетелями, но не потому, что были избраны, а потому что были рядом.
Перенесемся в то время и место. Высокие горы. Узкая тропа между скал. Холод, идущий не от ветра, а от чего-то древнего, молчаливого. В пещере пахнет железом, потом и жаром факелов. Каменные чаши, в которых темнеет вино. Или кровь, или и то, и другое.
Бык – уже не тело, а идея. Его жертва – не смерть, а закон начала. Ритуал не объяснялся, ибо просто происходил.
Вокруг – двенадцать: спутники, свидетели, хранители. Они не говорят: только смотрят, потому что главное уже произошло, причем, не жертва, а признание. Пища передаётся из рук в руки. Один жест. Один круг. Один обет. Они не давали этому имени, но именно так начиналась новая кровь.
Митру почитали в подземельях, то есть тишине. Там, где земля ближе к сердцу. Он не проповедовал, а совершал, и это стало кодом, тайной трапезой и жертвой за других. Он умер и воскрес не в теле, а в братстве и ритуале, что пережил века, и в этой тьме было что-то древнее и узнаваемое, как будто это уже было и станет потом.
Двенадцать фигур, хранящих молчание, однажды станут учениками. Один хлеб и вино, разделённые в тени пещеры, – символами тела и крови. Жертва, принесённая не ради себя, а ради других, будет переписана и разыграна вновь. И когда кто-то скажет: «Это моё тело. Это моя кровь», – эхо пещеры, запах железа и камня – отзовутся в глубине, но не как подражание, а как возвращение.
…
Уже в другой земле, среди ветра, пахнущего шафраном, молоком и золой, не придет, а появится как флейта Кришна. Здесь не пустыня, а пыль от танцев и песен, запутавшихся в цветных тканях.
Пастух не по роду, а по выбору, он знал имена всех телят, шёл впереди стада, но слушал не себя, а ритм их колокольчиков. Его узнавали не по заповедям, а по смеху, глазам и флейте в тумане.
И когда позже прочитают о том, как некто родился от девы, зачавшей по воле Духа, и как царь, наслушавшись пророчеств, велел уничтожить младенцев в колыбелях, в его памяти оживёт не только история иудейского Вифлеема. В ней откликнется древний, как сама человеческая надежда, индийский миф о тёмном царе Камсе, приказавшем убивать детей из-за страха перед восьмым сыном своей пленницы; о маленьком Кришне, переправленном через реку в тёмную ночь под ливнем и выросшем как будто вне закона и власти. Эти сюжеты-близнецы, рождённые в разных концах земли, говорили об одном: свет приходит в мир хрупким и беззащитным, и тьма всегда пытается задавить его в колыбели, но ему суждено выжить и победить.
Время шло. Из мальчика с флейтой он стал тем, кто вёл колесницу на поле брани и в глазах которого осталась та же игра, но теперь с вечностью.
Аскетом он не был. Его называли богом, но жил он как человек: танцевал, воровал масло, сводил с ума девушек. Но в этом смехе было знание, недоступное другим, ибо не наказывал, а раскрывал и разрушал иллюзии. Всё, за что держались люди, он обращал в пыль, и в пустоте, где больше нечего защищать, рождалась Истина.
На поле битвы Кришна был не правителем, а возничим, управляя движением, а в другой руке держа истину. Не навязанную, а открытую.
Он говорил о долге, о том, что душа не умирает, что тело – лишь одежда, которую можно снять, что путь требует жертвы, но не ради славы, а ради Целого. И он никогда не говорил в пустоту, поскольку всегда напротив него стоял человек.
Арджуна, воин, который сомневался, был его другом, учеником и братом по духу. Он дрожал: не от страха смерти, а от невозможности поднять руку против своих, ибо не хотел убивать даже во имя долга. Его руки с мечом опустились, и тогда Кришна посмотрел в него, сказав: «Я был до всего. И я буду после. Я несу в себе начало и конец. Я – голос внутри тебя».
Позже это станет фразой: «Я и Отец – одно». А ещё образом: Учитель среди учеников, говорящий не как пророк, а как Вечное. И ещё спустя время станет известным изречение: «Когда путь теряет свет, Он приходит, чтобы восстановить и вернуть не свыше, а изнутри, так как божественное не входит в человека, а выходит наружу через него».
Кришна ел с учениками, делил с ними тень и солнце, показывал чудеса: поднимал мёртвого мальчика на руках матери, прикасался ко лбу одержимого – и тьма выходила из тела, как дым из лампы. И всё это он делал не ради славы, а чтобы напомнить, что в человеке уже есть божественное.