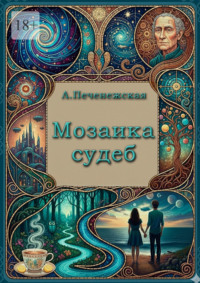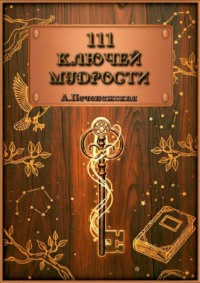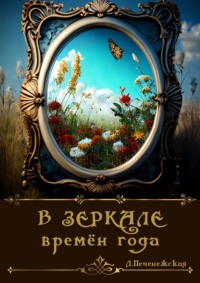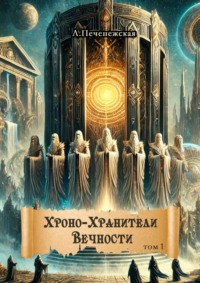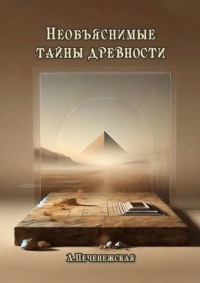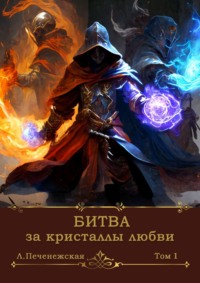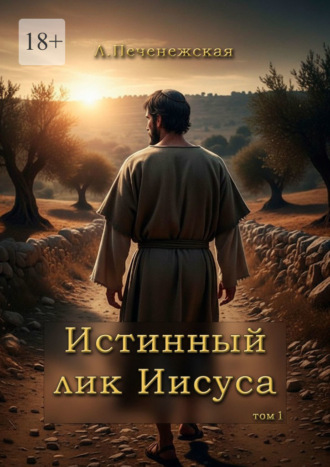
Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 1

Истинный лик Иисуса. Том 1
Лариса Печенежская
© Лариса Печенежская, 2025
ISBN 978-5-0068-0077-9 (т. 1)
ISBN 978-5-0068-0118-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Это не биография, не теологическое исследование и не стремление опровергнуть или подтвердить существующее мнение об Иисусе Христе, а попытка вглядеться в человека, скрытого за мифологически созданным образом.
Аналогов этой книги нет, поскольку она написана на основе информации о Йешуа из Назарета, собранной Chat GPT – OpenAI и Gemini – Google Ai Studio из различных источников, сохранившихся у разных народов мира, что позволило мне как автору проанализировать её, обобщить и использовать для художественного осмысления и создания романа.
Он написан не ради спора или доказательств, а чтобы услышать и понять того, кто реально жил в Галилее в начале I века н.э. и был наделен необычными способностями.
Мы живём в мире, где имя Иисуса знает каждый. Оно стало настолько привычным, что редко кто задаёт вопросы, на которые не принято отвечать вслух. О нём написаны сотни книг, нарисованы тысячи икон, сложены миллионы молитв, воздвигнуты храмы, пролиты реки крови, к нему обращено неисчислимое количество просьб… Но при этом как мало мы знаем о том, кем он был на самом деле не в зеркале догм, а – в реальности.
В этой книге я не буду спорить с церковью, а просто спрошу: «Кто ты Йешуа: Сын Божий или Сын Человеческий?»
Достоверно неизвестно, совершил ли он свои тридцать семь чудес. Но разве от этого умаляется его значимость? Разве тот, который осмелился говорить о любви, милосердии и свободе, не стоит того, чтобы его, спустя два тысячелетия, услышали снова, но по-настоящему?
Поэтому этот роман – приглашение к диалогу с самой значимой фигурой в истории человечества. Вместе мы пройдём путь от реальности, связанной с именем Йешуа, у которого когда-то хватило смелости говорить вслух то, о чём многие боялись даже думать, к архетипу Иисуса Христа, от внешнего к внутреннему, от легенды – к личной правде и от веры навязанной – к вере пережитой.
Главный герой романа – не объект поклонения, а зеркало, в котором каждый может увидеть себя: с сомнениями, жаждой смысла и верой, которую не навязали, а выстрадали, ибо пришло время не верить вслепую, а осмысливать.
Каждый абзац прочитанного будет как шаг босиком по пыльной дороге, устланной историческими фактами, ощущениями, переживаниями и прозрениями. И важно пройти её с уважением к истине и к тому, о ком каждое слово написано не как о легенде, а как о живом человеке. И если вы, дорогие читатели, прочитаете этот роман с таким же настроем, с каким он написан, он станет и вашим откровением.
ЧАСТЬ I. По следам того, кто пришёл без имени
Пролог. Сквозь время к образу
Каким был мир, в который пришёл будущий Христос? Он появился не в пустоте. Не на сцене, озарённой светом, где заранее ждут Спасителя. Он пришёл в раскалённую пыль, зной и предчувствие, дрожавшее, как натянутая струна. В мир, уставший надеяться, но не способный отпустить веру. Давайте и мы сейчас погрузимся в Иудею I века – землю контрастов, боли и томления.
Глазами путника, впервые оказавшегося здесь, она предстала бы как суровая, выжженная страна, где песок щиплет глаза, а воздух насыщен ароматами оливковых деревьев и смолистых благовоний, струящихся из лавок.
По узким улицам шумных городов тянутся караваны с пряностями, тканями и вином. На каждом углу – нищие, просящие милостыню, торговцы, выкрикивающие цены, и мальчишки, гоняющие коз. Женщины в тёмных накидках спешат с кувшинами к колодцам, старики с накинутым на плечи шерстяным плащами и тканью, прикрывающими голову от полуденного солнца, сидят у входов в дома, обсуждая вести с дороги. Кто-то ругается у колодца, кто-то спорит с соседом о цене на ячмень, кто-то молча смотрит на закат. Ослик с поникшей головой и опущенными ушами обречённо тащит телегу, набитую мешками с зерном… Его спина дрожит от жары, над ней вьётся рой мух, облепивших кровоточащие следы от плети. Он пытается отгонять их редкими взмахами хвоста, не ускоряя шаг и не оборачиваясь, давно став частью здешнего пейзажа, терпеливой тенью жизни.
Слышна речь на разных наречиях – арамейском, греческом, латыни, галилейском – всё сливается в один пульсирующий поток жизни. Среди толпы – паломники, оборванные проповедники, странники с севера и юга, купцы и мечтатели, жрецы и ремесленники. Кто-то молится, кто-то торгуется, кто-то просто ищет взглядом знак или смысл. Бедность здесь соседствует с торжественностью, хаос – с ритуалом.
На стенах крепостей развеваются штандарты с ликами кесаря, напоминая, кто здесь истинный владыка. У входа в Иерусалим пилигримов встречают стражи – суровые, отстранённые, закованные в броню.
Звуки наполняют этот мир: глухой стук кузнечных молотов, ритмичные удары палок по тележным колёсам, приглушённое пение левитов у входа в синагогу, звуки флейт уличных музыкантов. В воздухе носятся обрывки диалогов, крики торговцев, шорох кожаных сандалий по запёкшейся земле, детский смех и плач, лай собак, визг колёс, хриплый голос странствующего пророка, зовущего к покаянию. Это шум мира, живущего в предельном напряжении.
Над всей этой суетой будто витает нечто неосязаемое – тишина, готовая разорваться, напряжение, застывшее в воздухе. Люди живут, словно чего-то ждут, и в то же время боятся, что это случится. А кто-то просто сидит у стены, глядя в пыль, и шепчет молитву. Не для публики. не для священников, а для себя, чтобы не исчезнуть в гуле чужих голосов.
Но стоит сделать несколько шагов вперёд – и перед глазами встанет Храм: белый, сверкающий, как будто вознесённый из света, где звуки замирают, словно боятся заговорить слишком громко. Люди стекаются к нему со всех концов страны и из других провинций, чтобы совершить жертвоприношения, прочесть молитву, прикоснуться к священному. Над Храмом – запах благовоний и сожжённого мяса, поднимающегося с алтарей к небу. Здесь каждый камень хранит историю, каждое лицо – предвкушение. Молитвы перемешиваются со страхом, вера – с отчаянием, а тишина – с ропотом грядущего…
…
Это была эпоха парадоксов – почти театральных по силе контраста. Величественная религиозность пронизывала всё: от быта до политики. И рядом – повседневная жестокость, ставшая привычной. Святые книги хранились в домах и храмах, читались с трепетом, обсуждались на площадях, но тут же, на тех же улицах, звучали крики наказуемых, свист плетей, топот солдатских сандалий. Пророчества звучали в устах старцев, а рядом кто-то голодал, не имея куска хлеба. Искали знамения, но сталкивались с римскими податями. Говорили о законе Моисея – и жили под кнутом кесаря. Торжественные ритуалы сменялись бытовыми вопросами: как прокормить детей? где достать масло? как соблюсти заповедь и при этом выжить?
Это была реальность, где дух стремился вверх, а тело – вниз. Пространство расщеплённой истины, где вера не спасала от страха, а знание – от боли. Где Бог был в словах, но не в ежедневной жизни. Где пророчество жило рядом с отчаянием, а надежда – как капля воды в пустыне: редкая, почти иллюзорная, но необходимая. Именно это внутреннее напряжение между «верить» и «выжить» делало эпоху одновременно опасной и священной.
В один и тот же миг в разных уголках Иудеи происходили сотни сцен: мальчик держит свиток и слушает отца, читающего Тору, а за окном стучат римские копья; девушка торопится в синагогу и опускает глаза, проходя мимо легионеров; кто-то шепчет молитву в тени стены, будто прячет её от мира. Над всем этим – какофония звуков: псалмы, крики, лай собак, шаги, визг повозок – и редкие, почти осязаемые паузы тишины, в которых звучит только один вопрос: «А слышит ли меня Бог?» И именно в этой предельной, натянутой до звона тишине намечался путь. Хрупкий, как трещина в стекле. Путь Слова, которое не просто звучит, но меняет. Иногда – не мир, о нас. Его ещё не услышали, но Оно уже было в пути. Тихо. Несмело. Необратимо.
Мир, в который должен был прийти Иисус, был пограничьем между мирами. Не только географически, но и культурно, духовно, экзистенциально.
С одной стороны – жестокий Рим: колосс на мраморных ногах. Империя дорог, акведуков, военного порядка и бюрократической хватки. Его присутствие ощущалось не только в законах и налогах, но и в подспудном чувстве зависимости, в воздухе подчинения. Легионеры несли не просто мечи – они приносили с собой образ жизни, основанный на дисциплине, силе и обожествлённом императоре.
На городских площадях – чиновники диктуют писцам приказы, солдаты смеются, выбирая товары, а торговцы выжидают, кому поклониться ниже. Местные жители отводят глаза от латунных панцирей. Архитектура римлян блистает мрамором и идеальными пропорциями, но под камнем скрипят кандалы. За статуями богов – плети. Для иудеев легионеры – не защитники, а чужаки. Их обычаи – кощунство, их гордость – вызов. Кесарь для них не бог, а узурпатор света.
Империя нависала над страной, как тень без света – не яростная, но неумолимая. Как небо: далёкое, но вездесущее. Её воля касалась всего – дома, сделки, молитвы.
С другой стороны – Иудея. Земля пророков и обетований. Она не блистала военной мощью, но в духовной силе превосходила многие империи. Это был народ, переживший Вавилонское пленение – время изгнания, когда в 586 году до н. э. войска Навуходоносора разрушили Первый Храм Соломона и увели часть населения в Вавилон. Это стало травмой, но и моментом глубокой переоценки веры. Именно тогда окончательно сформировалось представление о едином Боге, который не связан с местом, а присутствует даже в изгнании.
Когда спустя десятилетия, при персах, им позволили вернуться, началось восстановление – и с ним строительство Второго Храма. Он уже не сиял былым великолепием, но стал символом надежды, воли к жизни и верности Завету. Это был народ, который нёс в себе не просто прошлое, а ощущение избранности и предназначения.
Паломники приходили в Иерусалим не только ради обряда – они шли к сердцу мира, к Храму, где, по верованию, обитал сам Бог. Город жил, как пульсирующее сердце, скрытое под каменными плитами. Его узкие улочки, наполненные жаром, песком и молитвами, вели к святилищу, как сосуды к сердцу.
Истинное величие Иудеи было не в её границах, а в том, что она хранила: Свитки, Завет, Обетование. Каждый мальчик с детства учился читать Тору. Каждая семья, даже беднейшая, старалась соблюдать Шаббат. В окне зажигались субботние свечи, в углу – свиток с текстом Шма – древнего исповедания веры, начинавшегося словами: «Слушай, Израиль…». Старик в тфилине – кожаных ремешках с крошечными коробочками, в которых хранились строки из Писания, – читал у стены дома, мальчик шептал за ним слова, мать настраивала лампу и произносила благословение, будто стараясь сохранить свет как в доме, так и в душе.
Женщины шептали древние слова не только у колыбели, но и в час тревоги, чтобы удержать веру, пока мужчины молчали. В воздухе витали ароматы горячих лепёшек и воска, звуки шагов по каменному полу, шелест ткани, дыхание тишины, в которой слышалась молитва – не всегда громкая, но всегда личная.
Каждый праздник напоминал о прошлом, которое должно было воплотиться в будущем. Законы Иудеи были не просто общественными – они были священными. Их прошлое было не просто историей, заветом, вплетённым в саму кровь поколений. Но этот завет, как старое письмо, перечитывался всё чаще с болью и сомнением: исполнится ли он?
Маленький народ с великой памятью, со священным словом и болью изгнаний, порабощений и ожиданий, словно жил в состоянии внутреннего надлома: одной ногой – в прошлом, полном чудес и откровений, где море расступалось перед избранным народом, где Бог говорил с Моисеем на горе Синай, где манна падала с неба, а пророки, ведомые духом, взывали к совести царей, другой – в настоящем, где вера испытывалась ежедневной реальностью. Даже во время благословения вина глаза мужчин искали не небо, а вестника. Даже в песнопениях дети прислушивались: не скрипит ли где-то доспех. И каждый новый день становился тихим вопросом к Богу: «Где же Ты?»
А посередине – не идея и не культ. А жизнь, пульсирующая и настоящая, сущее, способное чувствовать страх и надеяться на чудо. Такие же, как мы – люди, которые боятся не абстрактного суда, а стражника у ворот, доноса соседа, холодного взгляда из толпы, которые мечтают – не о славе, а о куске хлеба, о тишине для своих детей, о дне без унижений и податей. Молятся искренне, повторяя древние слова, не до конца понимая, но всегда с надеждой. Обычные люди. Уставшие… не только телом, но и душой от ожидания, которое длится веками. Верящие… несмотря ни на что, упрямо, как те, кто не может не верить. Плачущие… не только от боли, но и от невозможности сказать вслух всё, что тревожит.
Да, это были простые ремесленники, земледельцы, вдовы, старики, дети. Они не писали трактатов и не вершили политику. Они жили среди камней и пыли, в домах без дверей, где крик торговца был ближе, чем голос кесаря. Женщины месили тесто, глядя на рассвет. Мужчины точили лемехи плугов и прислушивались – не скрипнет ли где-то сандалия враждебного воина. Старики вспоминали пророков, юноши спорили у колодца о смысле жизни. Дети играли в пыльных дворах, а ночью замирали под рассказ о манне с неба и чуде исхода. В каждом из них теплилось нечто неуничтожимое: тоска по справедливости и надежда, что однажды кто-то осмелится сказать вслух то, что давно зреет в их молчании. Потому что Истина редко приходит в залы власти. Она выбирает тень. Тишину. Уши, готовые её услышать. Не тех, кто кричит громче, а тех, кто слушает глубже.
И в этой реальности, как лучик света, стал проявляться Его путь. Не в золотых одеждах и не на фоне сияющих нимбов. Он явился в эпоху, где слово было оружием. Где сказать: «Я и Отец – одно» – значило не просто верить, а стать вызовом. Где быть Голосом – означало стать мишенью.
Представьте себе Иудею не как картинку с открытки, а как напряжённый узел времени, в котором сошлись древняя вера, политический страх и ожидание перемен. Эта земля знала тяжесть завоеваний: персы, греки, селевкиды, а теперь – римляне. Каждый новый властитель приносил свои порядки, но не мог до конца подчинить дух народа.
На её территории находился перекрёсток торговых путей, соединявших Египет с Сирией, Месопотамию с побережьем Средиземного моря, Аравию с Малой Азией и, далее, с путями, ведущими к европейским портам. Это была точка пересечения культур, религий, диалектов и мечтаний. Где-то за поворотом пыльных улиц тянулись караваны – на верблюдах, лошадях, мулах… Вьючные животные гнули спины под грузами масла, вина, смолы, благовоний и тканей, прибывших из Тира, Дамаска, Александрии и даже далёкой Антиохии.
Здесь кипела жизнь, шли обмены, толпились караваны, спорили торговцы, перекликались акценты. Через Иудею проходили не только товары, но и идеи, слухи, пророчества, обрывки легенд. Она была мостом между мирами и потому всегда оставалась на границе между покоем и бурей. На этом стыке цивилизаций Иудея обогащалась духовно, культурно и информационно, впитывая лучшее из пришедшего, переосмысляя и переплавляя его в собственную традицию. Это была земля не только ожидания, но и внутренней работы над собой, над словом, над верой.
За прилавками стояли согбенные старики, в тени арок прятались мальчишки, играющие в кости, а женщины у колодцев передавали друг другу не только кувшины, но и слухи о новых пророках. Иудея напоминала собой туго натянутый нерв: дрожащий от напряжения, готовый оборваться от одного слова, сказанного не в том месте.
Храм в Иерусалиме был не только религиозным центром, но и экономическим, административным, культурным. Сюда стекались паломники, деньги, жертвы, амбиции. За внешним блеском и ритуалом скрывалась борьба за власть между группами влияния. Люди говорили шёпотом, смотрели исподлобья, молились глазами, не губами – чтобы не быть услышанными тем, кем не надо. Их вера была невидимой, но держала стены крепче камня. А в маленьких деревнях, таких как Назарет, жизнь оставалась простой – печи, рубленое дерево, молитвы, жара, недосказанность.
Да, это Иудея на рубеже тысячелетий. Первая половина I века. Восточная провинция великой империи, но в ней уже пульсирует дух народа, который слишком долго ждёт. Чуда. Мессии. Справедливости.
Это была земля, где каждый нерв был оголён до предела. На одной – высокоорганизованный Рим, с его законами, легионами, налогами и бюрократией. Империя, привыкшая устанавливать порядок железной рукой, не терпевшая вызова и несогласия. Она создавала дороги, мосты, но вместе с ними приносила контроль, языческое влияние, культ императора и ощущение, что под римским орлом не может быть иных богов.
А с другой – Тора, иудейский закон, вплетённый в сознание народа, живущий в его памяти и сердце. Это был не просто кодекс – это была живая связь с Богом, передаваемая из поколения в поколение: память о пророках, о Завете, о Великом Исходе, о Храме как сердце мира. Народ жил в ожидании будущего: Мессии, восстановления царства, возвращения Бога в Его полноте. Но чем сильнее было это ожидание, тем острее чувствовалась разница между тем, что было обещано, и тем, что происходило вокруг. Это напряжение – между имперской рукой и обетованным Заветом – пронизывало всё. Оно ощущалось в выражении лиц, взглядах, в шепоте на базарах. Оно скапливалось в груди, как непроизнесенная вслух молитва. И поскольку всё было обострено до предела – достаточно было одного слова, чтобы мир задрожал. Или – рухнул.
А между Римом и Иудеей – живой человек. Маленький, согбенный не только от тяжести ноши, но и от тяжести молчания. Он не вершил историю, но проживал её. Был не идеей и не образом, а обычной реальностью – уязвимой, живой, каждый день совершающей выбор между страхом и верой. Он не писал летописей, но держал на плечах бремя империи: налоги, реквизиции, унижения. В душе – постоянная тревога: хватит ли зерна, не иссякнет ли колодец, не постучит ли солдат в дверь?
Каждый шаг напоминал: ты – не хозяин своей жизни. И всё же: ты – потомок Авраама, наследник Завета. Раб в глазах империи, но – чадо Божие в глубине сердца. Этот внутренний разрыв не заживал, он жил в каждом вдохе и молитве.
На душе – груз обетований, как свёртки писем, слишком долго не открытых. Вера не столько вдохновляла, сколько удерживала от падения. Надежда – не от избытка, а от того, что без неё душа высохла бы. Жизнь – на грани: между доверием и разочарованием, между прошлым и тем, что ещё не стало настоящим.
Человек молился – не всегда словами, но всегда сердцем. Верил, потому что не верить было равносильно исчезновению. Надеялся – как надеются те, кто больше не может иначе. Ждал. День за днём. Без знаков. Без чудес. Но с внутренней готовностью услышать, если вдруг ветер заговорит.
…
И именно к нему, к такому существу, которому не хватало слов для молитвы, но хватало для слёз, и пришёл Иисус. Не к учёным, не к первосвященникам, а туда, где пульс жизни бился тише – но чище. Потому что именно в нём – наиболее близком к богу, уязвимом, сомневающемся, но жаждущем – звучала тишина, готовая стать откровением.
После смерти Ирода Великого в 4 году до н. э. его царство было разделено между сыновьями. Юдеей вскоре стал управлять римский прокуратор – представитель императора, обладавший как административной, судебной, так и военной властью. В годы жизни Иисуса эту должность занимал Понтий Пилат (26—36 гг. н. э.) – человек, вошедший в историю не только как римский чиновник, но как символ столкновения между земной властью и духовной истиной. Пилат происходил, предположительно, из сословия всадников, принадлежал к числу карьерных администраторов, служивших интересам Рима на дальних рубежах. Он не знал тонкостей иудейской религии, но умел чувствовать, где кончается порядок и начинается опасность.
Историки Иосиф Флавий и Филон Александрийский описывают его как правителя жёсткого, склонного к высокомерию и пренебрежению местными чувствами. Он позволил внести в Иерусалим штандарты с изображением кесаря, грубо нарушив еврейский запрет на изображения. Потратил деньги из храмовой казны на строительство акведука, чем вызвал массовые протесты, но на народные волнения отвечал с жестокостью.
Пилат не был жестоким ради жестокости – он был ледяным «душой». Молчаливым. Сухим, как пыль на римских сандалиях. Его лицо хранило следы постоянной усталости, а голос звучал, словно обрывок приказа. Он не видел в людях лиц – лишь статистику и вероятность бунта. Его воля была спокойной, как кинжал в ножнах – не на виду, но всегда готовый. Он был той властью, которая не поднимала голос – её голосом был страх. Он оставался в тени, но от его слов зависела жизнь. Он решал, кого казнить, а кого помиловать. Именно он в итоге подписал приговор Иисусу, умыв руки не от вины, а от ответственности.
Но над этой политической жёсткостью нависал пласт иной власти – древней, глубинной, почти невидимой. Это была ткань веры, пронизывающая всё: от первого вдоха младенца до последней молитвы умирающего. Иудея была не только провинцией – она была теократическим обществом, в котором вера и закон не были отдельными сферами.
Закон Божий здесь не висел в воздухе теорий – он шагал по улицам вместе с людьми. Он был в руках, что месили хлеб, в словах, которыми приветствовали, в молчании, которым провожали в последний путь. Он регулировал не только праздники и ритуалы, но и бизнес, семейную жизнь, питание, уборку, словесную вежливость. С раннего детства каждый мальчик учился читать Тору. Каждый шаг в жизни сопровождался благословением, запретом и предписанием. Вера была повсюду: в жесте, в слове, в тишине. Даже рынок не был просто торговым местом – это было пространство, пронизанное законами о чистоте, о честности и о субботнем покое.
Поэтому священство играло колоссальную роль. Первосвященник был не только религиозной фигурой, но и представителем народа перед Богом, особенно в Йом Кипур – День искупления. Храм в Иерусалиме был центром притяжения, сердцем страны, местом, где, по верованию, небеса соприкасались с землёй. Но и в этом храмовом сиянии зрело напряжение: священники чаще всего принадлежали к саддукейской элите, а значит – были связаны с властью и компромиссами. Не все верили в их искренность и не все признавали их духовное превосходство, но терпели.
Поэтому религиозная жизнь была не только сакральной, но и политически острой. Пророки прошлого были не просто благочестивыми праведниками – они бросали вызов царям. Их слова были не утешениями, а обвинениями. Однако в каждом поколении, когда появлялся кто-то, говорящий от имени Бога, люди не знали: это – спасение? Или угроза?
Но всё же именно вера оставалась стержнем, на котором держалось всё. Даже если слова угасали, она продолжала звучать в сердце. Потому что без веры всё распадалось: и мир, и душа, и надежда.
Но несмотря на это, даже в самой вере не было единства. Религиозный ландшафт Иудеи был расколот, как мозаика, где каждая фракция держала свою истину, свою интерпретацию Закона, свою мечту о будущем.
Фарисеи – народные учителя и духовные лидеры, пользовавшиеся уважением простых людей – верили в воскресение мёртвых, в пришествие Мессии, в ангелов и духовный мир. Их сила заключалась не в храмовой власти, а в глубоком знании Торы и устной традиции, которую они передавали через поколения. Они стояли на перекрёстках улиц в тёмных тфилинах, поправляли кисти на одежде, спорили о значении слова «правда» и учили детей, как удерживать сердце чистым. Словом, учили не только букве Закона, но и его духу, читали Писание вслух на площадях, спорили друг с другом у входов в синагоги, наставляли юношей в тени виноградников, поясняя, что чистота сердца важнее внешней обрядности. Именно с ними Иисус чаще всего вступал в спор – не из презрения, а потому что они были близки и опасны одновременно.
Саддукеи представляли храмовую аристократию. Они контролировали культ, храмовые финансы, были связаны с римской администрацией, отвергали устную традицию, не верили в загробную жизнь и не ожидали мессианского будущего. Для них Закон был буквально тем, что написано – и не больше. Они редко общались с народом напрямую, предпочитая административные заседания и торжественные жертвоприношения. Их власть была внешней, а вера – формальной, и именно они чаще всего видели угрозу в любом, кто говорил о Боге иначе, чем они.
Ессеи являли собой отшельников, мистиков и хранителей тайн. Они ушли в пустыню, создав общины, жившие по строгому уставу, в ожидании конца времён. Их жизни были тише ветра: молитвы на рассвете, омовения в ледяной воде, переписывание священных текстов на пергаменте. Свитки Мёртвого моря, найденные в Кумране, вероятно, принадлежали именно им. Они верили в двух Мессий – царского и священнического, отвергали Храм, считая его осквернённым, и ждали очищения Израиля огнём и светом.