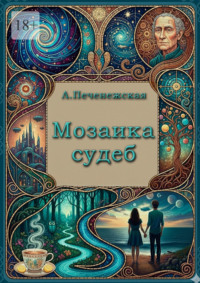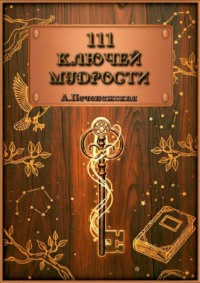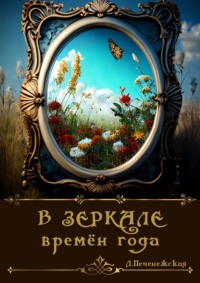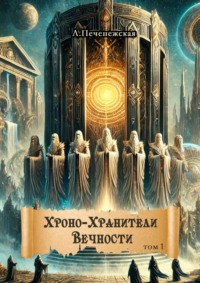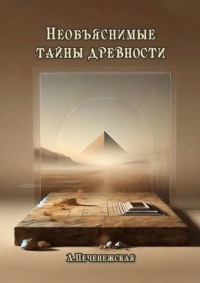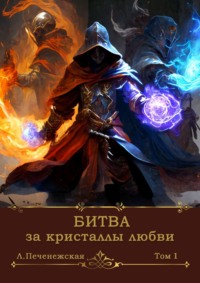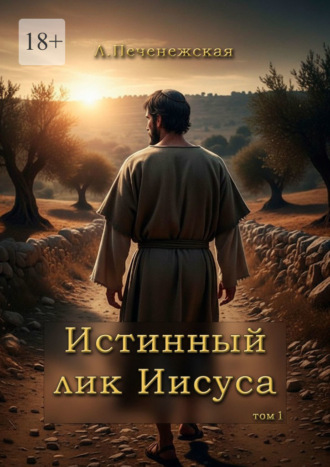
Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 1
Он различил во мне того, о ком было сказано: «Имя Его вознесено перед Господом духов прежде, чем было создано солнце и звёзды». И увидел Меня – «сидящего на престоле славы», но не как Судию, а как того, «в ком пребывает дух правды, и кто станет светом народам». И назвал меня Сыном Человеческим, хотя Я ещё не был человеком.
Но на языке пророков это звучало иначе – bar enash. Не как титул, не как знак власти, а как неосквернённый человек, который прошёл сквозь время и остался собой, не утратив различения. Тот, кто был среди людей, но в котором человечность ещё не была разрушена властью, страхом или славой, кто оставался прозрачным для Света даже среди тьмы бытия.
Меня ждали не с мечом, а как того, кто вернёт Лик. Енох увидел во мне праведника до рождения, того, чьё имя звучало до солнца, знамений, падения и прощения, не зная, что когда-нибудь оно будет произнесено на распятии.
Енох первым услышал во мне не власть, а свет для тех, кто будет слишком изранен внутри, чтобы ещё верить. Этого отклика хватило, чтобы Я поверил: когда приду, не узнают, но некоторые – вспомнят.
Но себя я находил не только в словах Еноха. Я проступал сквозь строки как предчувствие и в других текстах – в ночном видении Даниила, где «я с облаками небесными шел как бы Сын человеческий и дошел до Ветхого дня», которому будут даны «власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему».
Я был в свитках, найденных среди пыли Кумрана, где говорилось: «Он будет назван Сыном Божьим… Сыном Всевышнего», хотя плоть Его ещё не касалась земли.
Сохранен я был и в тексте «Мессианского апокалипсиса», где было сказано: «Слепые прозреют, мёртвые оживут, нищие услышат благую весть, и сокрушённые духом будут исцелены».
Это было не описание силы, знак, что Слово-Бог придёт не разрушать, но восстановить дыхание там, где его уже не ждут. Не Мессия с мечом, а тот, кто принесёт целостность тем, кто давно разуверился.
Я звучал и в Премудрости Сираха: не как образ, а как дыхание праведности, которая жаждет воплотиться, как ожидание, в котором ещё не знали меня, но уже тянулись ко мне как к тому, в ком Слово останется живым даже среди боли.
И в Премудрости Соломона Я был не назван, но узнан. Там праведник назывался «сыном Божьим». Он был гоним, высмеян, отвергнут, потому что осмелился жить иначе. Его мучители говорили: «Он называет себя сыном Господа… Если он действительно таков, пусть Бог избавит его». И дальше: «Ибо если праведник есть сын Божий, то Бог заступится за него и избавит его от руки врагов». Я был в этом праведнике не как исключительный титул, а как боль, через которую различал своих.
Упоминания обо мне можно найти и в Книге Юбилеев – не через имя, а через ожидание конца времён и восстановление справедливости.
В Заветах Двенадцати Патриархов моё дыхание было между строк: там говорилось о новом священнике, о царственном Мессии, о том, кто «будет светом для народов и познает Бога лицом к лицу», хотя имя моё ещё не было произнесено.
Я проступал в Откровении Ездры, где был «Моим Сыном», Человеком, восходящим из моря, который не кричит, а разрушает ложь своим присутствием. И в Апокалипсисе Варуха – в ожидании Того, кто явится «в последние времена», чтобы собрать рассеянных, исцелить разбитое и принести правду не как меч, а как прикосновение. Так Я и шёл: через тени, символы, намёки, через тех, кто слышал обо мне раньше, чем поверил.
Бог был во Мне, но Я не был доступен. Слово – не инструмент Бога, поскольку оно само есть Бог,
жаждущий быть узнанным. А для этого надо было войти в форму, чтобы стать различимым.
И я стал искать не веру, не святость, не чистоту, а ткань сознания, в которую мог вплестись, не будучи остановленным ни догмой, ни ритуалом, ни амбицией.
Мне нужна была внутренняя проницаемость, способность не удерживать, не сопротивляться и не искажать. Я не хотел вторгаться, а желал войти так, чтобы меня не пытались объяснить, присвоить или превратить в знамя, чтобы позволили просочиться туда, где ждут без знания, а потом, обретя плоть, смог бы звучать, как есть.
Если в человеке слишком много желания быть избранным, мне, как Слову, будет там тесно. Если слишком много страха, я не смогу удержаться, ведь приду не укрощать. Если слишком много ума, буду разложено на понятия, прежде чем успею отозваться. Я не искал, где легче или просто возможно и не мог войти в силу, ибо сила всегда хочет направлять и не мог войти в голос, поскольку голос ищет признания.
Поэтому мне была нужна прозрачность и тишина, а значит, женщина. Не потому, что святая, а потому что вынашивает, ничего не доказывая, и несёт, не требуя понимания.
…
Но и среди женщин не всякая могла услышать и быть прозрачной. Вот почему я искал не место для проявления, а пространство для со-звучия, не форму – а со-гласие.
Я не мог войти в храмовую деву, потому что её тишина была обязанностью, а целомудрие – предписано. Её святость была охраняема правилами, а не рождена из внутреннего доверия. Её тело было освящено, но не открыто, посвящено не отклику, а правилу. Я же искал чистоту, не предписанную словами, не служение, а согласие. Мне нужна была тишина, в которую можно не просто войти, а зазвучать.
В храме Моё имя стало бы частью пророчества, измерено, встроено в учение до того, как Я бы начал дышать. Моё имя – стало бы знаком, а тело – предписанием. Но Я хотел не исполнить пророчество, а быть узнанным без подсказки.
Я не мог войти в род священства, потому что их вера была долгом. Они знали, как правильно, но не умели слышать, если не следовал отклик свыше. Всё, что не подтверждено, они не различали.
Их священность была не рождена, а выучена. В ней не было страха ошибиться, а значит, не было боли от поиска.
Дочь священника ждала знамения. Её научили распознавать правильное, но не чувствовать живое. Её молитва шла по свитку, а Мне нужно было, чтобы по ране. Я приходил без знамений, без обещаний, а только с дыханием, поэтому не искал среди тех, кто стоял ближе всех к алтарю, но дальше всех от живого Бога, среди тех, кто знал, как бояться, но разучился любить.
И нашел деву не в храме, а в доме, где не ждали чуда, но умели удержать тишину, которая никому ничего не должна, потому что Слово чаще всего выбирает не возвышенное, а простое. Там, где верили, но не спорили, не просили доказательств, а просто не отвергли.
…
Именно в такой дом Я пришёл не как посланник, а как дыхание, которое не гонят прочь. В семью каменщика – простого, сурового, без претензий на святость, в котором было место не для величия, а для пустоты, а значит, для Отклика. Где не кричали о вере, не искали подтверждений, не требовали чудес, а сама вера была не темой спора, а просто тихим согласием, где слушали не ушами, а присутствием, где не отвергли – и этим уже приняли.
Его имя не сохранилось в истории – возможно, его звали Иосифом, как передаёт одно из преданий, но мы не можем быть в этом уверены. Но пусть оно останется в знак уважения к многовековой традиции. Ведь мы будем говорить о том, какой след он оставил в судьбе «сына» – невидимый, но неотъемлемом.
Иосиф был не стариком с белой бородой, а мужчиной, уставшим от жизни. Мастером камня. Не богословом и не мечтателем. Он работал молча. Руки – в пыли, спина – в тугой боли, накопленной за годы работы.
Он пережил вдовство, оставившее тень во взгляде, изгнание из родного селения за отказ участвовать в переписи, и это сделало его тише, закрыло для мира, но не для любви. И когда его обручили с молодой, он не обрадовался, ибо подумал: зачем мне ещё чья-то жизнь в моих руках? Но не отказался.
Иосиф был из рода Давида. Но это ничего не значило: империя не признавала родословных, если у человека не было серебра. Он был «из дома царей» только на бумаге, а в жизни – каменщик. Без амбиций, без мечты, но с внутренней устойчивостью.
А Мирьям… была девушкой из деревни, без особых примет, кроме одной: она умела быть тихой. Будучи слишком юной, чтобы спорить и слишком гордой, чтобы плакать на людях, она не умела говорить о чувствах, но знала, как молчать, не понимала мир мужчин, но чувствовала, когда её тело не принадлежит ей.
Обручение было не выбором, а обрядом. Скорее всего, договором между семьями. Может, по настоянию старших, а может, из-за бедности.
Но их жизнь вместе не началась сразу. В те времена между обручением – эрусином и брачной жизнью – нисуином проходил год. И в этот период женщина уже считалась замужней, но жила отдельно, оставаясь девственницей, а мужчина должен был подготовить дом. Мирьям жила между статусом жены и телом девушки, чувствуя, что на ней уже печать семьи, хотя муж к ней ещё не прикасался.
И в этой тонкой грани между «не понимаю» и «не предаю» зародилось Слово-Бог. Не как вспышка или вторжение, а как тихая, почти неуловимая дрожь: не голос, не свет и не плоть мужская. Оно пришло как импульс, изнутри, словно её тело само его узнало и приняло из глубины. Возможно, партеногенез. Не фантазия, а редчайший природный механизм, при котором яйцеклетка способна запустить процесс деления без участия сперматозоида. В природе это встречается у некоторых видов как последний шанс на продолжение рода, когда всё внешнее – мертво, и только внутреннее помнит, как жить. У человека это почти невозможно. Почти. И Мирьям не стала исключением.
Она не нарушала законы природы, но стала частью глубинной возможности, о которой сама природа почти забыла. Мирьям была не откликом в мистическом смысле, а телом, готовым не сопротивляться, не отвергать, а способным вместить без страха то, что не укладывалось в привычный порядок вещей. Её тело не нарушилось – оно активировалось. В нём не было вмешательства, но было узнавание. Оно не зачало, а отозвалось, как будто сама природа, забытая и древняя, вспомнила внутри неё, что жизнь может начинаться не только от слияния, но и от согласия.
И тогда Слово вошло. Не звуком, не смыслом, не образом, а собственным присутствием. Оно не приблизилось, а раскрылось изнутри, как давно сдерживаемое дыхание. Не как что-то чужеродное пришло извне, а как нечто уже живущее, обретшее направление в глубинах тела Марьям, в котором сначала открылся, а затем активировался тихо, точно и без боли потаённый узел восприятия. И Слово узнало место, что было готово впустить его.
Оно не захватывало, не подчиняло, а текло туда, где тишина не боялась быть глубокой. Оно не стремилось занять или расширить пространство, а лишь находило доступ к глубинным слоям тела, где не было защиты, только тишина. Не навязывало форму, а вписывалось в ту, что уже была готова принять его. Не заставляло, а становилось частью движения плоти, откликающейся на то, что не нуждается в доказательстве. Не вытесняло, а сливалось с тем, что в ней уже было: способностью удержать тишину. Именно это и стало первым зачатием. Не биология, а согласие. Не семя, а отклик. Не вторжение, а становление изнутри.
Тело ответило, не будучи спрошенным вслух, как будто в одной-единственной клетке произошёл сдвиг. Не ошибка или чудо, а просто запуск: один участок ДНК внутри неё дрогнул, словно натянутая струна, нашедшая нужную вибрацию: тонкую, точную, неслышимую, но решающую. Это был не рывок, а щелчок, не просыпание, а настройка. Как если бы внутренняя формула её тела вдруг вспомнила предназначение, заложенное в самой природе, но забытое тысячелетиями, без вмешательства и воли извне. И что-то внутри неё приняло решение, не спрашивая её ума.
Это не было похоже ни на зачатие, ни на болезнь. Скорее, на странную лёгкость в животе, как если бы тепло медленно опустилось из груди к низу живота, оставляя за собой не боль, а плотность, в которой трепет как преддверие чего-то живого.
А потом незаметно и без чудес тело стало меняться. Просто однажды утро началось с лёгкой тошноты от запаха хлеба, который раньше казался нейтральным. Потом появилась тяжесть в груди, тянущее, но не болезненное ощущение внизу живота. Мирьям не испугалась, но почувствовала, что внутри неё что-то стало просить пространства необъяснимой плотностью.
Месячные не пришли, но дело было не в них. Всё её тело стало дышать иначе. Казалось, внутри появилось другое дыхание – ритм, не совпадающий с её, но в согласии. Не вторжение, а соседство. Она ощущала, что внутри неё происходило что-то, что нельзя было назвать, но уже невозможно было не чувствовать.
И тогда она впервые положила ладонь на живот не от боли, а от узнавания. Не как мать, а как та, в чьём теле начало расти Слово-Бог. Не ребёнок, а присутствие, которому тело сказало «да» – и всё необратимо изменилось.
Это был не дар, а её собственная отдача. Не за что-то, не потому что свята, а потому что была способна не закрыться, не оттолкнуть и не испугаться странного тепла, которое не требовало имени, но уже становилось частью её.
Когда в ней зашевелилось Слово, она ещё не была в близких отношениях с Иосифом, а потому долго не решалась заговорить с ним. Сначала не зная, что именно нужно сказать, а потом понимая, что любое слово может разрушить то хрупкое доверие, которое сложилось между ними.
Но однажды вечером, в тишине, когда они были вдвоём – не муж и жена, а просто люди, связанные супружеским обрядом, но чужие – она произнесла без просьбы поверить: «Я ношу не от человека, но это не ложь и не ошибка, а нечто, ставшее телом».
Иосиф не ответил сразу. Он посмотрел не на неё, а чуть мимо, как будто искал, где в его сердце есть место для услышанного. Он не устроил допрос, не отправил Мирьям обратно к родителям. Хотел было тихо отпустить её не из страха, а из боли, но потом, медленно вдохнув, сказал только: «Я не понимаю. Но не отрекаюсь».
Иосиф не сразу поверил, но осознал, что можно быть рядом, даже не понимая. Он просто остался не как герой или спаситель, а как тот, кто просто не ушёл. Их семья не была идиллией, скорее союзом двух одиночеств, которые не предали друг друга. Он больше ни о чем не спрашивал, а она – не оправдывалась.
Иосиф продолжал работать, возвращался домой, молча чинил сломанные вещи в доме. Он не смотрел на её живот, но каждый вечер оставался чуть дольше, задерживался взглядом, не спрашивая, ибо учился быть рядом, не обладая, не проверяя и не обнимая без разрешения.
Иногда ему казалось, что рядом с ней он – тень, а не муж и не будущий отец, но принимал и это без борьбы. Просто был рядом.
А Мирьям с каждым днём начинала дышать свободнее, поскольку муж не ставил под сомнение её правду. И в этом было больше веры, чем в любых словах. Но по вечерам, когда оставалась одна, в ней поднимался страх не перед Господом, а перед людьми. Перед женщинами у колодца, чья молчаливая речь могла стать приговором. Их взгляды были как острые края глиняных кувшинов: не ранили напрямую, но оставляли царапины. В их глазах было больше долга, чем милости, больше правил, чем живого сердца.
Иногда ей чудилось, что стоит кому-то узнать – и всё, что у неё есть, исчезнет. Иосифа лишат имени, дома, родства, а её вычеркнут из жизни деревни: не убьют, а просто перестанут видеть, сотрут из памяти, как пятно с ткани, без крика и следа.
Но за границей этого страха был он, её муж, каждый вечер возвращавшийся с работы уставший, молчаливый, с натруженными руками и тяжёлым дыханием. Он просто садился рядом, не спрашивал, не отворачивался, не упрекал – и её страх отступал. Не исчезал, но становился тенью, а не голосом.
И было нечто, чему не находилось ни имени, ни объяснения: она чувствовала внутри не шевеление тела ребёнка, а пульсацию как звучание. Почти неслышное, но не исчезающее: будто что-то внутри неё вибрировало, едва уловимое не в звуке, а частоте. И она жила с этим тихим присутствием, как с дыханием, незаметным, но заполняющим всё внутри, которое уже стало её частью.
Мы развивались с ребенком вместе. Он – плоть. Я – Слово. Он не знал Меня, но не изгнал, поскольку у него не было «я», которое могло бы мне отказать. Я же был ритмом, напряжением, внутренним дрожанием, и его сознание начало строиться вокруг Меня, как нерв – вокруг оси.
Мирьям не знала, что ждёт её дальше, и не пыталась угадать. Всё внутри подсказывало ей: не время для объяснений и имён. Она больше не различала, где она сама, а где – то, что в ней растёт. Всё становилось единым движением: дыхание, шаг, тишина внутри. У нее не было ответа, но была готовность. Не пророчество, не знание, только простое: «Я готова» не умом, а плотью. И за этим было уже не ожидание, а приближение. Всё говорило: скоро…
Глава 3. Рождение без Вифлеемской звезды
История, как её знают миллионы, начинается с Вифлеемской звезды, яслей, волхвов и песен ангелов. Но сейчас не о легенде, а о реальности. В ней же всё куда сложнее.
Вроде бы известно, когда он родился. Ведь именно от этой даты мы ведём летоисчисление. Но стоит заглянуть чуть глубже – и всё начинает рассыпаться. Евангелисты пишут, что мальчик появился на свет во времена Ирода Великого. А Ирод умер за четыре года до «нашего» Рождества Христова. Значит, он родился раньше? Но перепись, с которой также связывают его рождение, проходила лишь в 6 году нашей эры. Тогда позже?
Мы не знаем. Мы можем только угадывать. Возможно, всё случилось где-то в интервале – между 6 годом до и 6 годом после. Да и сама дата рождения – 25 декабря – появилась позже. Римляне праздновали тогда рождение Непобедимого Солнца. И идея Света, побеждающего тьму, показалась христианам созвучной. Так Солнце стало Сыном.
О его жизни мы знаем ещё меньше. Говорят, он прожил 33 года. Но в текстах нет ни точного возраста, ни календарной даты. Он как будто пришёл и ушёл вне времени. Как свет, не привязанный к числам. Так где же он родился?
В Вифлееме – так говорит одна традиция. В Назарете – утверждает другая. Интересно, что даже те, кто называет местом рождения Вифлеем, всё равно называют его Иисусом Назарянином. Совпадение? Или всё же след подлинного происхождения?
Учёные и богословы до сих пор спорят, и каждый приводит свои доводы. Вифлеем – город Давида, символ пророческой связи. Назарет – простой, незаметный уголок, где жил обычный люд. Возможно, именно он и был той самой реальностью, из которой поднялось Слово.
И тут возникает вопрос, ставший со временем краеугольным: а было ли непорочное зачатие? Мы не ставим задачу опровергнуть или доказать эту идею. Мы просто смотрим, что говорят древнейшие источники. Апостол Павел, один из первых христианских авторов, упоминает Иисуса как потомка Давида по плоти, то есть по мужской линии. Евангелист Марк – самый ранний из евангелистов – вообще не упоминает чудесное рождение. Даже Иоанн, чей текст наполнен мистицизмом, начинает рассказ с уже взрослого Иисуса. Только у Матфея и Луки – более поздних авторов – появляется история о непорочном зачатии.
Исследователи говорят: сама идея непорочного рождения для иудеев была чужда. Их мессианская надежда строилась не на сверхъестественных ритуалах, а на родословной, ведущей к царю Давиду. И, скорее всего, идея сверхъестественного рождения возникла позже – в среде бывших язычников, для которых чудо было неотъемлемым атрибутом великого.
В те времена ходили истории о непорочном зачатии Платона. Говорили и о божественном происхождении Октавиана Августа, даже если все знали его родителей.
Возможно, и с Иисусом случилось то же. Когда человек становится больше самого себя – рождается миф. А миф, как известно, никогда не задаёт вопрос: «А было ли это на самом деле?» Он просто говорит: «Так должно быть».
Миф – как занавес. Он закрывает то, что было, и открывает то, что должно быть. Но если отодвинуть этот занавес, мы не найдём звезды. Мы услышим стоны женщины в полумраке. Не гимны, а дыхание, не сияние, а сжатые от боли пальцы.
Мы не знаем точно ничего об этом «сыне Божьем». Евангелия хранят почти полное молчание о его жизни до тридцати лет. Будто само время прижимает палец к губам и шепчет: «Это ещё не история. Это – тишина перед Голосом свыше».
А может быть, так было задумано, чтобы то, что по-настоящему важно, не писалось сразу в летописях, а начиналось с жизни, с дыхания и обычной комнаты, в которой горит лампада.
Не было пророческой звезды на небе. Не было песен ангелов, звучащих над крышей. Не звучали торжественные гимны. Не было волхвов, несущих золото и ладан. Была ночь – как тысячи других ночей. Глухая, тёплая, пыльная. Собаки лаяли где-то у стены, тявкали и затихали. За тонкой перегородкой громко ссорились соседи. Где-то хлопнула дверь…
А в тени узкого переулка, среди десятков таких же домов с плоскими крышами, в одной из комнат с глиняным полом и копотью на стене, в мягком, колеблющемся свете свечей стонала в родах молодая женщина.
Она лежала на спине, зажмурившись от боли, сжимая пальцы матери или старшей сестры. Возле неё – согбенная повитуха, седая, морщинистая, с крепкими руками. Она тихо нашёптывала не священные слова, а простую, древнюю молитву, которую шепчут женщины в доме, где ждут жизнь, а не чудо.
И вот он родился. Мальчик. Он заплакал не сразу, и сердце матери сжалось от ужаса. Но потом – вдох, хриплый, отчаянный, и мир вокруг неё снова стал двигаться.
Повитуха откинула с его лица мокрые пряди, обернула в старое покрывало. Никаких драгоценностей и дорогого полотна. Только тёплая вода, глиняный кувшин и тишина – пронзительная, как шепот, который хочет стать голосом.
Каждое рождение – всегда тайна, точка входа в человечность. В этот дом пришёл не Спаситель, а младенец. Тот, кто будет долго учиться говорить, ходить, падать, подниматься, плакать, бояться. Мы все пришли так же. Без звезды над крышей. С болью, любовью, первым криком и первым прикосновением. Он ещё не был услышан, но уже был здесь.
Малыш родился в доме, где всё было под рукой: печка, корзина с хлебом, вода в ведре и даже дым… где под потолком висела сушёная трава, а за окном ухал филин. В доме, где каждый день был похож на предыдущий.
Ему дали ему имя – Йешуа. Простое, как сама земля, на которой он родился. Имя, которое произносилось каждый день десятками других матерей, не подозревавших, что оно однажды станет символом. Тогда оно было просто именем. Не титулом, не пророчеством, а дыханием любви. Мы можем представить, как мать, глядя на ребёнка, прошептала это имя – не из знания, а по наитию, потому что оно значило: «Яхве спасает». И, быть может, в ту ночь она молилась не о спасении мира – а лишь о том, чтобы Яхве уберёг её новорождённого сына.
Никто не записал эту дату. Никто не знал в тот момент, что этот младенец однажды заговорит так, что мир содрогнётся не от грома, а от Истины, которую он вложит в Слово, а Слово – в сердца. Ту Истину, которую он произнесёт тогда, когда мир уже разучится слушать.
…
Семья – это не просто дом и кров, это первый мир, в который приходит душа, где рождается не только тело, но и тишина, в которой она учится слышать себя. Мы не знаем, как звали всех, кто окружал мальчика, не знаем точных слов, которыми они делились с ним, но можем попробовать прикоснуться к самому важному – к тому, что оставалось между строк, в движениях, во взглядах, в молчаливом согласии жить рядом. Как нам кажется, это была простая семья, живущая на краю Империи, вдали от великих городов и громких имен. Но в её буднях рождалось нечто важное – основа внутреннего света, который однажды скажет миру своё Слово.
Говорят, это был Назарет – крошечное селение, затерянное среди холмов Галилеи. Место, о котором почти не упоминали в летописях. Здесь не происходили великие битвы, не вершились судьбы народов.
Улицы Назарета были пыльными, дома – из необожжённого кирпича, виноград плёлся по деревянным подпоркам. И никто тогда не знал, что один из мальчиков, играющих в его проулках, однажды изменит восприятие самого времени.
Он же рос в доме, где всё было просто и ясно, как утренний свет. Там не звучали высокие речи, но каждое движение было наполнено смыслом.
Отец был ремесленником. Просто мужчиной, чьи руки были загрубевшими от камня, лицо обветрено солнцем, а спина согнута годами труда. Он приходил домой уставшим и молчаливым, но в его молчании было что-то надёжное. Он был тем, кто, не зная слов великих пророков, всё равно жил по Закону: не в проповедях, а в заботе.
Его дни начинались с рассветом и заканчивались поздним вечером, когда тело ломило от усталости. Его называли «тэктон» – так в греческом языке обозначали ремесленников, умеющих работать с твёрдым материалом. Не только с деревом – чаще с камнем, глиной, известью. Вифлеем был землёй холмов и сухих троп, а не леса. Камень здесь был главным строительным материалом. Поэтому, возможно, Иосиф с еще молодых лет стал был каменщиком: строил стены домов, укреплял дворы, ремонтировал кровли, укладывал очаги. Его руки были в мозолях, ногти – вечно чёрные от известковой пыли и песка.
Он был плотный, с крепкими плечами, выгоревшими на солнце волосами и вечной складкой между бровей от напряжённого взгляда. Лицо его редко озаряла улыбка, но в глазах было то спокойствие, которое приходит к тем, кто умеет создавать из хаоса форму.