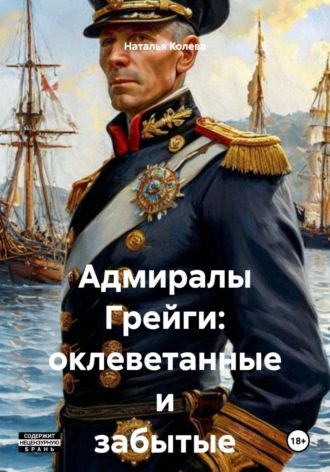
Полная версия
Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые
«Граф Филипп Осипович Остерман сказал, кажется маркизу Паулуччи в 1812 году: Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя»[24].
Лучшие дни для флота настали с первых же дней царствования Императрицы Екатерины II. Толчком к развитию послужили успехи Балтийского флота и необходимость укрепления южных рубежей России. Успешные действия в войнах с Османской империей обратили внимание властей на необходимость создания боеспособного флота на Черном море, тем более что был уже присоединен Крым, строились Херсон, Николаев, Севастополь. Освоение черноморских берегов и кораблестроение шло бурными темпами. Руководил работами Г. А. Потемкин, и он может справедливо считаться основателем Черноморского флота. Херсон предстал перед Императрицей укрепленным городом с судостроительными верфями. Уже в 1780 году там было 180 домов, строились 5 фрегатов и 64-пушечный линейный корабль. Через год – 300 домов и дислокация девяти полков. Потемкин получил одобрение и полную поддержку Императрицы, оговорили лишь некоторые изменения. Так, транспортировка леса в Севастополь обходилась очень дорого, его можно было доставлять либо обозами, либо судами с перевалкой после сплава по рекам, и это было накладно для казны. Императрица и Светлейший согласовали решение построить новые верфи при впадении реки Ингул в Буг. В 1789 году был основан Николаев, а в Севастополе производили только докование и строили небольшие суда. Планы реализовали, и Николаев стал главным судостроительным центром на юге России. Потемкин писал Екатерине: «Черноморский флот обязан возвысить славу России! На Севере вы умножили флот, а здесь из ничего сотворили… Люби, матушка, свой флот как свое дитя, Черноморский флот ужо усердно Отечеству послужит!». В Николаев из Херсона были переведены Штаб флота и главные судостроительные верфи. Светлейший, вероятно, уже тогда понял, что Херсон неудобен для строительства кораблей. Залив мельчал, появлялись песчаные бары (подводные отмели) и до «чистой воды» корабли перетаскивали на камелях (плавучих доках, состоящих из двух понтонов), а это было тяжело и дорого. Поэтому обвинения А. С. Грейга в том, что он «ликвидировал» Херсонскую верфь, не обоснованы. Об этом думал еще Потемкин. Да можно просто посмотреть на карту.
При Екатерине Великой началось усиленное судостроение, увеличился экспорт парусного полотна, чугуна и железа. В 1773 году экспорт превышал импорт на 2,7 млн рублей, в 1786–25,8 млн. Был полностью запрещён импорт тех товаров, которые производились или могли производиться внутри России. Император Фридрих II говорил, «что во Франции четыре министра не работают столько, сколько эта женщина, которую стоит зачислить в ряды великих людей». Императрица, отлично понимая, что на судне важен личный состав, обратила внимание на его обучение. Эскадры стали посылаться для практического плавания. Вот тут и «вылезли» все недостатки прежних лет, особенно в некомплекте офицеров и нижних чинов. Невозможно было отправить в море все суда. Чтобы привести из Архангельска построенные корабли, пришлось сократить практическую эскадру Балтийского моря. Посетив её, государыня написала графу Панину: «Адмирал хотел, чтобы они [суда – Н.К.] выровнялись в линию, но ни один корабль не мог это исполнить…». Желая показать красивую картинку, эскадра под командованием адмирала Мордвинова подошла к Гаривалдаю, где был построен «городок для бомбардирования». Шоу началось! Эскадра открыла огонь, из городка ответили артиллерийским огнем, потом специальные люди зажгли там приготовленные фитили и ушли. Городок благополучно загорелся. Адмирал Мордвинов недооценил императрицу. Она не «купилась» на этот фейерверк и бутафорию. В другом письме Панину писала: «…до 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Так как моей ушной перепонке надоел этот шум, столь же смешной, сколько и бесполезный, то я велела просить к себе адмирала, простилась с ним и просила не настаивать более на сожжении того, что оставалось от города… Эту пустейшую экспедицию только мы и видели. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен…». Получив флот в ужасном состоянии, Екатерина оставила его, хоть и с материальными недостатками, но могучим духом, заслуженной боевой славой и почетом, добытым во всех морях. В Средиземном море повысилось мировое значение России; Балтийский флот защищал и остановил наступление шведов; флот в Черном море возвратил ДРЕВЛЕРУССКОЕ МОРЕ и на юге приобрел естественную морскую границу. Императрица высоко ценила заслуги флота, и в письме Потемкину писала: «Я всегда отменным оком взирала на все флотские дела. Успехи онаго меня всегда радовали более, нежели сухопутные, понеже к сему исстари Россия привыкла, а о морских её подвигах лишь в мое царствование прямо слышно стало; до дней онаго морская часть считалась слабейшей. Черноморский же флот есть наше заведение, собственное, следовательно, сердцу близкое»[25].Не мудрено, что русская история только двух монархов называла и называет «Великими»: Петра I и Екатерину II. Они прекрасно понимали значение флота, создали его, и этим прославили и себя, и Россию. Не случайно австрийский дипломат Шарль-Жозеф де Линь вспоминал о Екатерине II: «Она всегда носила табакерку с портретом Петра I и говорила мне: «Это – чтобы спрашивать ежеминутно, что приказал бы он, что запретил бы он, если б был на моем месте». Именно в правление Екатерины II появился в России Самуил Карлович Грейг из клана Мак-Грегор.
Глава II. Мак-Грегор – пора!
Первую хронику истории клана составил Вальтер Скотт. Клан Грегор, или, по-другому, Мак-Грегор – потомки короля Алпина, правящего в 9 веке. Это один из кланов горной части Шотландии, владевший многими землям, всю жизнь боровшийся с шотландскими и английскими королями. Члены клана считают своим родоначальником принца Грегора Макальпина, сына короля Кеннета I, это отразилось в их девизе «Мы – королевского рода», но возможно это легенда. Историки же считают, что предком Мак-Грегоров был Гриогар, сын Дангала, соправителя королевства Альба в период между 879 и 889 годами. Первым вождем клана, чьё существование подтверждено историческими документами был Гриогар «Золотые Шпоры»; ему наследовал, около 1390 года, сын Иан Одноглазый, он и стал вторым вождем клана. Мак-Грегоры были очень воинственны, имели много земель, но удача отвернулась от них, когда король Роберт Брюс передал большую часть их земель клану Кэмпбеллов. Как и в случае со многими королевскими дарами того времени, им было дано право решать, как их получить. Кэмпбеллы решили по – своему: подделали документы на право владения и быстро построили замок Килчурн. Они изводили Мак-Грегоров, которые вынуждены были удаляться всё глубже в свои земли. Грегор Рой Мак-Грегор десять лет вел войну с Кэмпеллами. У него не было другого выбора, кроме как стать преступником, совершать набеги, угонять скот. Клан, поставленный вне закона, лишенный земель и средств к существованию, этим и промышлял. Чтобы обуздать Мак-Грегоров, правители Шотландии, а потом и Англии, издавали законы на полное истребление рода Мак-Грегоров. Первый закон принял Тайный совет ещё при королеве Марии 22 сентября 1563 года. В 1570 году Кэмпбеллы схватили и убили Алистера, сына Грегора Роя; он претендовал на власть вождя, но не смог остановить волну преследований. После того как королевский лесник Джон Драммонд повесил несколько Мак-Грегоров за браконьерство, он был убит. Вождь клана взял всю ответственность на себя и был осужден Тайным советом. В 1592 году после битвы при Гленфруне побежденные пожаловались королю Якову VI, и 3 апреля 1603 года он издал указ, провозгласивший имя Мак-Грегора «альтогиддер отменивший», это означало, что носившие это имя должны отказаться от него или понести смерть. Имя Мак-Грегор уничтожалось навечно. Но клан не сдавался! Многие приняли другие имена: имена родственников, друзей и людей, с которыми сотрудничали, тем и сохранили жизнь клана. На них охотились, как на животных. Новым указом Тайного совета от 24 июня 1613 года предписывалась смертная казнь бывшим членам клана, если они соберутся более 4-х человек. Но был один Мак-Грегор, самый известный, доживший до старости и умерший своей смертью. Прославленный в произведениях Вальтера Скота – Роб Рой Мак-Грегор, или Рыжий Роберт, – острая заноза в теле тогдашнего правительства. Вполне реальное лицо в истории Англии и Шотландии. Даже памятник заслужил. После Реставрации Карл II облегчил участь клана, они получили привилегии, владели поместьями. Было отменено определение имени, но всё закончилось в 1688 году, когда Вильгельм Оранский свергнул брата Карла – Якова VII. Начались новые гонения, могущество клана пошатнулось, началось истребление рода. Преследования закончились только с приходом на трон Георга II в 1774 году. Отец нынешнего вождя клана, сэр Малькольм Мак-Грегор, служил во флоте в Первую Мировую, награжден не только правительством своей страны, но и Франции. Память о прошлом жива. Клан до сих пор бережно хранит боевую песню рода Мак-Грегор.
«Не знает наш клан и главой где прилечь.Но клан наш сберег и свой дух, и свой меч.Так смело же, смело! Мак-Грегор, ура! Мак-Грегор, пора!Нет крова, нет пищи, нет имени нам…Огню же их домы, их троны орлам!На битву, на битву! Мак-Грегор, ура! Мак-Грегор, пора!Вот из этого рода и был САМУИЛ КАРЛОВИЧ ГРЕЙГ.
Самюэль Грейг родился 30 ноября 1735 года в Шотландии, в королевском городке Инверкейтинг, в семье капитана торгового судна Чарлза Грейга и его жены Джейн.

Самуил Карлович Грейг
Посещал приходскую школу, плавал на судах отца. Детство закончилось быстро, в 15 лет, когда он поступил волонтером во флот. Дальше – обычная жизнь моряка торгового флота. Послужной список 15-тилетнего Самюэля впечатляет. В 1750 году вступил в службу и был определен на пакетбот «Надежда» и плавал из Англии в Лизбон (скорее всего Лиссабон), из него до Генуи и Неаполя. Плавал в Средиземном, Балтийском и Северном морях до 1754 года. В этом же году сдал экзамен и получил свой первый чин – мичмана. 1756 год стал последним мирным плаванием Грейга. За 6 лет непрерывного плавания он дослужился до командира торгового корабля, в английском флоте это всего лишь унтер-офицерский чин, но первый шаг был сделан. То, что получил молодой моряк за это время – хорошая морская практика. Самюэль испытал тяжелый труд моряка, катастрофу, повидал несколько морей и 20 портов Европы и Северной Африки. Обретя опыт, стал настоящим «морским волком», и вот… война. Её потом назовут Семилетней: она длилась с 1756 по 1763 год. Военная служба сулила быстрое продвижение в чинах и должностях, вот и перешёл Самюэль из торгового флота на королевскую службу мичманом. «По вооружении Англии против Франции, вступил в аглицкую королевскую службу мичманом на военный фрегат [нрзб] и на сим фрегате был в крейсерстве около французских берегов и ловил разные купеческие призовые суда»[26]. Говоря проще, захватывал торговые суда стран, с которыми Англия вела войну. Это была обычная практика того времени. Все желающие могли купить «приз», деньги шли команде судна. Послужной список большой, поверьте, он впечатляет, но это всё до его перехода на русскую службу. С 1754 по 1764 был в боях и с французами, и с испанцами. Пишут, что в 1759 году был произведен в лейтенанты, но это не так. Грейг был назначен на эту должность, а получил её через несколько лет, после возвращения в Англию 4 февраля 1762 года. Самюэлю 27 лет, это его первый офицерский чин. Но война окончилась, мир с Францией и Испанией заключен, и встает вопрос: что дальше? За плечами Самюэля большой боевой и морской опыт, крейсерские операции, крупные морские сражения у Бреста в бухте Киберон, блокада Тулона, осада и штурм трёх крепостей (Горн, Св. Елены, Гаваны), но карьера затормозилась и не сулила никаких серьёзных продвижений по службе. Остаться в военном флоте или вернуться в торговый? Грейг прекрасно понимал, что для моряка-шотландца из мятежного рода Мак-Грегор карьера в английском военном флоте на этом и закончится; помнил, сколько ждал чин лейтенанта. Английские исследователи тоже вынуждены были отметить, что «Грейг служил с отличием, но со скромным вознаграждением». И вот удача! Русский посол в Англии С. Р. Воронцов, по указу Императрицы Екатерины II, вербовал английских офицеров на русскую службу. Не знаю, долго ли думал Самюэль Карлович, но решение принял. Обратился к королю Георгу III с прошением отпустить его в Россию и 7 мая 1764 года получил решение:
«Канцелярия Адмиралтейства, 7 мая 1764 годСэр,Мне поручено лордами-комиссарами Адмиралтейства довести до Вашего сведения, что, сообразуясь с Вашим желанием, они имеют удовольствие дать Вам разрешение следовать во владения императрицы России. И выполняя волю Его Величества, их светлости имеют так же удовольствие дать Вам разрешение поступить на службу у этой императрицы и проявляют заботу о передаче Вам письменного удостоверения британского министра, в котором указывается, что выплата Вам жалования по службе будет прекращена с момента Вашего поступления на русскую службу.
Остаюсь Ваш покорный слугаС. СтефансЛейтенанту С. Грейгу, г. Лондон»[27].Ничего удивительного в этом не было, Екатерина восстанавливала пришедший в упадок после смерти Петра I русский флот. О его состоянии можно судить по высказываниям самой Императрицы, они приведены выше в письмах Панину, поэтому нужны были грамотные и смелые офицеры, чтобы возрождать, поднимать технический и боевой уровень флота. В помощь русским морякам и кораблестроителям и было принято решение пригласить иностранных специалистов. Кроме Грейга, разрешение выдали его родственнику Роксбургу и трём офицерам. Роксбург потом вернется в Англию. 18 июня 1764 года вышел указ Екатерины о зачислении всех английских моряков в русский флот:
«Приняли мы в нашу морскую службу английского флота офицеров, которые все и природные англичане, с данного им на то от его великобританского величества точного позволения и всемилостивейше им пожаловали: контр-адмиралом Дугласа, капитаном 1 ранга Грейга, капитаном 2 ранга Роксбурга… повелевая нашей адмиралтейской коллегии:
1. Признать их и жалованье производить им в настоящих чинах по договору, учиненному от нашего имени с ними там на месте: к-адм. Дугласу с 20 марта сего года, в который день сложил он команду с корабля своего в английской службе, а прочим с 20 апреля, т.е. месяц спустя, когда они равномерно ж от мест своих получили увольнение.
2. Понеже для скорейшего познания обрядов нашей службы соизволили мы им в нынешнюю кампанию волонтерами на кораблях флота под командою адм. Полянского, того ради и приказать их там привесть в верности к присяге…». На подлинном указе, собственной рукой дописала: «Старшинством считать капитана Грейга с 20 марта, а Роксбурга и Гордона с 5 апреля 1764 года»[28].
В русском флоте служило много иностранцев, они принесли славу флоту наравне с русскими моряками: англичанин Белли – герой ушаковских кампаний на Средиземном море; шотландец Поль Джонс – герой морских сражений у стен Очакова, кстати, он основатель американского флота, национальный герой США; герой Хиосского сражения датчанин А. И. Круз; немец, «король без королевства», принц Нассау-Зиген; голландец Кинсберген; основатель Одессы, сподвижник Суворова, участник штурма Измаила Рибас (Дерибас); первый строитель Севастополя англичанин Мекензи и множество других. Большинство из них верой и правдой служили России и приняли российское подданство. Но современники и историки отмечали наибольший вклад в развитие русского флота именно Самуила Карловича Грейга. Известный историк русского флота Ф. Ф. Веселаго писал о нем: «По важности и разнообразию своих заслуг первое место между ними занимает… Самуил Карлович Грейг, имевший как отличный специалист и высокообразованный энергичный деятель первенствующее значение в нашем флоте и пользовавшимся вполне заслуженным доверием у всех. Ему, кроме славных побед над турками и шведами, русский флот обязан введением полезнейших усовершенствований в морском и боевом вооружении и управлении судов, в улучшении портовой и адмиралтейской деятельности и образовании многих превосходных офицеров. По отзыву его подчиненных офицеров и нижних чинов, «это более отец, нежели начальник»[29].Высшая похвала для офицера русского императорского флота, ее нужно заслужить! Тем более, иностранцу. Но это всё в будущем!
А пока он, как волонтер, командует единственным 100-пушечным кораблем русского флота «Св. Дмитрий Ростовский». Полноправным командиром не был, только дублером. Через год С. К. Грейг назначается командиром фрегаты «Св. Сергий». Зная технику парусных судов английского флота, Грейг усовершенствовал парусное вооружение на своем, испытал его и предложил Адмиралтейству для введения на всех кораблях. Предложение рассмотрели и посоветовали сделать свое усовершенствование на новом 60-пушечном корабле «Три иерарха», куда Грейг был назначен командиром. Спускался на воду еще один корабль – «Три святителя», но на нем парусное вооружение оставили прежним специально, для сравнения. Не спешило Адмиралтейство вводить новшества на русских судах, но одобрило и рекомендовало капитанам выполнять их… на свой страх и риск: если не получится лучше, чем было, все переделки за их счет. Но кто же на такое пойдет? О предложениях Самуила Карловича узнала Екатерина II и стала настаивать на их «внедрении». Предложения Грейга были не просто «кстати», они были жизненно необходимы флоту. Семилетняя война хоть и закончилась, но Европа, особенно Австрия и Франция, пыталась ослабить Россию и натравить на нее Турцию. Екатерина II была не против этой войны, она мечтала осуществить планы Петра I о выходе России в Черное море. 4 ноября 1768 года был создан Тайный совет, он разработал план ведения войны «со всех четырех углов»: через Днестр на Европейскую Турцию, через Украину – на Северное Причерноморье и Крым, из Восточной Украины – на Кубань, и из Грузии на Азиатскую Турцию. Братья Орловы – Григорий и Алексей, предложили отправить эскадру из Балтийского моря в Средиземное, чтобы действовать против Турции со стороны Архипелага, а еще поднять там восстание против турок. Возглавить его собирался Алексей Орлов, ему Совет поручил командование всеми морскими и сухопутными силами, пожаловали «кейзер-флаг» и, следовательно, права генерал-адмирала.
Началась подготовка Архипелагской экспедиции. С. К. Грейг был откомандирован в распоряжение А. Н. Сенявина. Тот поручил ему последнюю, пятую, партию собиравшихся на юг моряков флотилии, но в последний момент, по просьбе адмирала С. И. Мордвинова, Екатерина II предписала Грейгу остаться в Петербурге. Причина более чем веская. Шла подготовка эскадры Балтийского флота к походу в Средиземное море. Экспедиция предстояла трудная, и все наиболее способные офицеры были на счету. Поэтому С. К. Грейга, отличившегося во время командования линейным кораблем «Трех Иерархов», решили оставить в Петербурге, чтобы он смог участвовать в походе в Архипелаг. Сенявину же разрешили выбрать ему замену. Почему-то этот момент нигде не освещается. Подготовка началась. Пользуясь связями, Екатерина лично просила прислать ей морские карты и планы портов, описание берегов, лоции. Русскому послу в Лондоне, графу И. Г. Чернышеву, писала: «Обещайте мне приискивать много желаемого литейщика чугунных пушек, за что, барин, тебе спасибо, а хотя бы он несколько дорог был, что же делать? Лучше бы он безошибочно лил пушки, нежели наши, кои льют сто, а годятся много что десять. Барин, барин! Много мне пушек надобно: я Турецкую империю подпаливаю с четырёх углов; не знаю загорится ли и сгорит ли, но то видно, что со времени начатия их не было ещё употреблено противу их стольких хлопот и забот». В сентябре 1768 года Императрица опять ему пишет: «зададим звон Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором… Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства не маленькие… и вот мы, какого не ожидали, и вот турки будут побиты». Рисковая у нас была Императрица! Франция уже давно хотела выслать эскадру в Средиземное море, и Екатерина могла рассчитывать только на помощь Англии, у которой был конфликт с Францией. «Некоторые современники говорили о русской императрице, что секрет её вечных успехов-уменье «разыгрывать» одну державу против другой. В данном случае ей удалось «разыграть» и выиграть свою сложную игру на вражде между Англией и Францией»[30]. Но что же хотела сама Англия? Какие у неё были интересы? Чего желал граф Чэтем и его друзья? О чём хлопотал находящийся под его влиянием кабинет и особенно лорд Сэндвич, статс-секретарь иностранных дел? Чего добивался лорд Бокингем, английский посол в Петербурге? Всё как обычно: втравить Россию в войну. В данном случае с Францией. Они готовы были подарить России остров Минорку, чтобы у русского флота была стоянка в Средиземном море. Да и вообще хотели обеспечить военную и дипломатическую помощь. И не только против Франции, с которой Екатерина ссорилась из-за польских и турецких дел, но и против Испании, с которой Россия не ссорилась никогда. А вот Испания была согласна помогать Франции, Англия была против этого: «Нечего удивляться тому, что к неприятнейшей для себя неожиданности граф Шуазель получил довольно решительное предупреждение от британского кабинета, что Англия не потерпит франко-испанского нападения на русскую эскадру»[31]. В чем они просчитались, так это в оценке Екатерины. Она оказалась не так проста, как предполагали английские политики. Очень быстро посол Бокингем понял, что «величавая, любезная, умная светская дама» (так о ней писали, когда не хотели называть имя) поворачивает куда нужно важного, принципиального графа Панина без всякого труда, и притом с такой быстротой, что нельзя угнаться и вовремя обернуться. Новый посол Джордж Макартни в октябре 1764 года к полному своему неудовольствию нашёл, что «светская дама» более «умна», чем «любезна», когда разговаривает о политических делах. Начиная с 1764 года, министр иностранных дел Франции герцог Шуазель выступил уже открыто как инициатор нападения на Россию. Он послал генерала Дюмурье с целым штатом офицеров и окружения с целью усилить нажим на Турцию: «важно было иметь возможность бросить на тылы России не только Порту, но вместе с тем и прибрежные государства по Дунаю и Черному морю, в то время как скандинавские государства будут удерживать русских на севере». Екатерина считала, что Шуазель ещё и отправил своего человека на наш корабль, чтобы тот обманул русских, сообща о якобы смерти султана, и писала об этом Потемкину. Тот в ответ написал: «Скорее Шуазель послал осмотреть, что у нас делается, нежели нас уведомить. Его француз на сем судне ничего подобного не открыл, чтобы был нарочно прислан. Напротив, просится назад. Я уверен, что другие суда, о коих они упоминают, побывают в протчих гаванях. Это новый род выдуман шпионства. Ежели их отпускать, то мы нигде в покое не останемся. Притом, показания его о флоте турецком весьма преувеличено». Одним словом, французская дипломатия толкала турок на войну против России, предвидя с самого начала, что ничего хорошего из этого не выйдет, но кого это волновало: турки уже глубоко «увязли» в французской игре. Не только Императрица, но и враждебные России страны признавали, что в 1768 году Турция, мало того, что формально первая объявила войну и напала на Россию, но и всячески провоцировала её. Турцию осыпали подарками, обещали поддержку и подталкивали к войне, как могли.
25 ноября 1768 года русский посол Алексей Михайлович Обрезков и 11 человек посольства были вызваны к великому визирю. Дипломаты – отдельная, особая каста. Но среди них было место и людям непривилегированных сословий, выходцам из семей священников, горожан, казаков. Талант важнее титулов. Люди работоспособные, знающие иностранные языки, часто оказывались на самых важнейших постах и главное, справлялись блестяще. Так и случилось с выходцем из незнатного рода ярославских помещиков Алексеем Обрезковым, который не имел ни титулов, ни высокопоставленных покровителей – только талант и упорство. Благодаря им он в 33 года стал главой русской миссии в Стамбуле и 20 лет оставался на этой должности. Обрезков хорошо знал турок, цену великим визирям и всем постановлениям Порты, которая всегда руководствовалась интригами той или иной державы. Более всего хлопот доставлял крымский хан, но и его интриги сломил русский посланник. К сожалению, интриги французского посла при Порте Верженна Обрезков побороть не мог. Нашему послу был объявлен ультиматум: Россия должна, во-первых, немедленно вывести свои войска из Польши и обязаться не вмешиваться в польские дела, то есть в борьбу за уравнение православных с католиками. Тут надо пояснить. Екатерина II прочила в короли Польши Станислава Понятовского. С одно стороны, Порта одобрила избрания поляка, но… Дальше последовал недвусмысленный намек, его восприняли как оскорбление непосредственно русской императрицы: «…всякий Пяст, предложенный для избрания в короли Польской Республики, будет угоден Порте, за исключением только одного – Станислава Понятовского. Избрание этого Пяста не будет признано Портою: он молод, неопытен и не женат. Брачные узы, заключенные после избрания, могут послужить средством усилить власть короля в ущерб польской независимости, возбудить беспокойство соседних Польше держав и создать Порте в будущем такие затруднения, которые она желала бы избежать». Обрезков передавать этот ультиматум отказался наотрез и успел переслать ноту в Петербург. Алексей Михайлович был арестован и со всем персоналом посажен в тюрьму. Намек был слишком груб и ясен. Понятно, что молодость здесь ни при чём и нота создана не без участия французского посла в Константинополе. Всё было организованно только для того, чтобы сразу же сделать невозможным мирный исход. Чтобы обезвредить сплетни, Понятовскому послали сообщение, что «в виду настоящего положения дел и опасений, внушенных Порте относительно брака… необходимо, чтобы он обручился или обвенчался немедленно…». Но война началась! Перед отправкой экспедиции в Архипелаг отношения между Императрицей и Шуазелем обострились до предела. Не желая пропускать русский флот из Балтийского моря в Средиземное море и имея на это материальную возможность, политическую возможность сделать это Шуазель не имел: во-первых, мешали англичане; во-вторых, затевать большую новую войну не позволяли финансы. Екатерина все это учла и решилась на экспедицию. «Если события, совершившиеся в XVIII веке, покрыли Россию славой, то причину этого следует искать не в чем ином, как в интригах и происках врагов этой империи, которые, желая причинить ей большие бедствия, поставили её в необходимость развивать те средства, существование которых никто в ней не подозревал».



