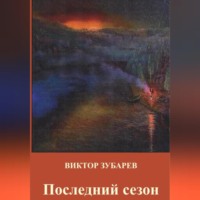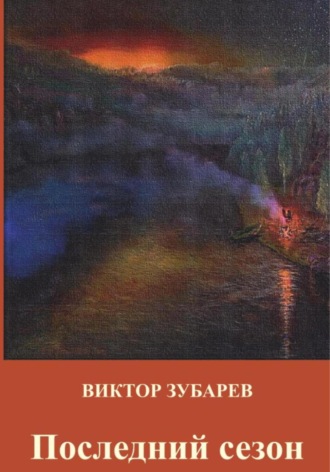
Полная версия
Последний сезон
Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак…
Может быть, под гитарный аккомпанемент она зазвучала бы бодрее и задорнее, но и в ту минуту разом её все, кто знал слова, подхватили, и полилась она по салону, сопровождаемая чьим-то мелодичным свистом в такт мелодии.
И снова веселье взяло верх – одна из девушек вспомнила песенку о соловушке-пташечке, тонким голосочком залилась. Почти никто не знал правильных слов, но многие разом подхватили простой напев:
…Соловей, соловей-пташечка
Канареечка жалобно поёт.
Эх, раз поёт, два поёт, три поёт
Канареечка жалобно поёт…
Пели, а точнее будет сказать – орали, веселились, над собой же и смеялись; видно было, что песенки эти простые понравились, потому что задушевные и весёлые. Жаль только, что слов всех толком никто не знал.
В окнах автобуса были видны молодые счастливые лица юношей и девушек. Люди на остановках догадывались: по всей видимости, едут студенты в колхоз на уборку картофеля. И не ошибались, поскольку уже с давних пор было заведено в городах и сёлах «запрягать» школьников и студентов разных уровней в помощь сельским жителям в борьбе за сохранение выращенного урожая. По всему огромному Советскому Союзу шла «битва за урожай», и одними из «ратников в этой битве» непременно были студенты. Для молодых вчерашних абитуриентов, ставших счастливчиками после тревожных изматывающих вступительных экзаменов, преодолевших нервные потрясения в конкурсных отборах, и, наконец, заполучивших право именоваться уже студентами, это была, наверное, самая романтическая пора знакомства друг с другом. Ведь едва успели только узнать имена своих будущих сокурсников. А не благородный ли труд на пользу отечеству лучше всего сближает таких разных и пока малознакомых людей? Да, была такая пора в истории студенчества нашей страны, с её незабвенными стройотрядами и поездками на производственную практику. И вот такие первые поездки в тесном автобусе, первые совместные песни, шутки-прибаутки, анекдоты и смех, несомненно, были первым шагом к дружбе и уважению в группе. Польза от участия во всеобщей битве уже явно просматривалась, не говоря уж о двух-трёх мешках картошки, милостиво «подаренных» по окончании страды каким-нибудь добрейшим руководителем колхоза, чтобы студенты впредь не шибко голодали.
Уместно предположить, что разные неудобства на таких сельскохозяйственных работах на первых порах, наверное, удручают людей неподготовленных и незакалённых, привычных к комфортабельным условиям, что больше касается городских. Да ещё погода почему-то взбесится и из солнечной, вдруг, превращается в занудную дождливую слякоть с холодными пронизывающими ветрами. Тридцать отпущенных дней становятся невыносимо тягостными и постылыми. Вероятно, у многих, если не у всех, в умах появляется всё чаще и чаще подлая тоскливая мыслишка: «…ну, когда же, наконец, закончится эта каторга? Не пора ли уже отправить нас, бедных студентов, в родные «апартаменты»? Сколько можно лопатить это поле, оно бесконечное что ли?..»
Впрочем, разве могут ли быть у молодёжи мысли унылыми и паническими. Кто-то с первых дней пребывания в колхозе находил свою капельку счастья. Нечаянно пролетала искорка симпатии к тому или иному человеку, возникало искреннее обаяние между другими, открывались общие интересы среди третьих. Рутинные часы пребывания на работе в поле, вечерами с лихвой компенсировались весёлыми выдумками и забавами, а ещё играми, которыми богат был разношёрстный студенческий народ. В такой компании унынию места не оставалось.
Вот этим будущим охотоведам и звероводам группы ОЗ-22, которые так весело распевали песни по дороге, несомненно, повезло. Тридцать с лишним человек представляли довольно обширную географию Советского Союза: были из Казахстана, Украины и Белоруссии; были из Волгограда, из Карелии, Калмыкии, Архангельска, Коми АССР, Чувашии и Ульяновска. Были и уральцы, и тюменцы, рязанцы и представители всего Золотого кольца матушки России. А сколько было из Подмосковья. Ну, и наконец, москвичи. Волею судьбы все они оказались в одной группе. В ней собрались и совсем юные парни, и девушки – вчерашние десятиклассники, и уже повзрослевшие и заматеревшие мужички, прошедшие закалку на воинской службе. Как-то так получилось, что по возрастной иерархии группа разделилась на две части. В самой юной компании оказались и двое молодых парней, поступивших сразу со школьной скамьи, о которых и пойдёт дальнейшее повествование.
Один из них русоволосый, среднего роста Ваня Кукшин. Внешне выглядел худощавым, но в нём чувствовалась крепкая стать. Впоследствии выяснилось, что в школе он действительно занимался в секции тяжёлой атлетики, и это пошло ему на пользу: хлюпиком или маменькиным сынком его никак нельзя было назвать. И по натуре оказался непоседой: в нём кипела энергия, и рвался наружу заводной темперамент. Весёлый остроглазый паренёк как-то быстро завоевал симпатии своих сокурсников и в скором времени стал довольно популярным человеком в группе. Возможно, потому что с юмором у него тоже было в порядке. Родом он был из Рязани, и порой создавалось впечатление, что его по-детски ещё наивные черты лица с заметно выступающими скулами и светлая курчавая шевелюра немного схожи с Есенинскими чертами – просто кому-то так показалось однажды. И если бы в тот момент из его уст прозвучали собственные стихи, наверное, обрёл бы он соответствующее прозвище.
Разные мотивы привели в этот техникум собравшихся здесь молодых людей. Но одна линия просматривалась наиболее чётко, правда, это касалось в основном парней: все они в той или иной степени связывали свою судьбу с охотой – это увлечение и привело их сюда. Впрочем, и девушек слегка эта тема коснулась, поскольку в основе у тех и других в душе была заложена «одна, но пламенная страсть» – любовь к природе, по крайней мере, любознательность и желание познать её больше. Тех, кого приласкало название учебного заведения – пушно-меховой, тот и почувствовал своё предназначение, и подался искать свою удачу в этот техникум, который находился в подмосковном городке Сходня, что в Химкинском районе Подмосковья.
У Вани сложилось, наверное, всё относительно просто. Дед у него был увлечённым охотником, обожал старинную охоту, читал и много знал из истории – его можно было долго слушать и слушать. А ещё он хорошо пел. Вот этот русский дух, любовь к природе и искусству, дед и сумел посеять в детской душе внука. Семечко упало на благодатную почву. Уже в подростковом возрасте Ваня знал многих птиц, обитавших в средней России, их голоса. Даже научился некоторым подражать. Домашние гербарии разных растений, коллекции бабочек и прочих букашек были обычным явлением в доме. Он часто выбирался на природу за город с дедом, а потом и один: изучал, запоминал, впитывал окружающий мир. Ему посчастливилось стараниями того же деда даже пройти школьную практику в качестве юного натуралиста в Окском заповеднике, где он многое узнал из жизни животных и птиц. Потянуло всё это зарисовывать, и он даже прошёл краткий курс рисования у своего соседа, школьного учителя. Когда подрос до нужных кондиций, дед стал брать его на охоту. Дальнейший жизненный путь уже был предопределён. Осталось только судьбе навести своею рукою на нужное учебное заведение, благо, что Рязань совсем недалеко от Москвы.
Сыграла ли здесь свою роль фамилия у юного любителя природы, трудно сказать. Можно допустить, что симпатичная и шустренькая птица кукша, обладающая по природе живым, любопытствующим характером, и послужила когда-то рождению подобной фамилии в их роду. Возможно, какой-то далёкий Ванин предок был прозван в своём окружении Кукшей за сходство с этой юркой птичкой, примечательной своим весёлым поведением и шустрым темпераментом, а ещё верностью и привязанностью к своему месту обитания. К тому же народ ей приписывал смелость и храбрость… Ну, мало ли какими качествами в старые времена наделяли тех или иных земных обитателей, но народ зря сочинять не будет – благодаря предкам своим теперь и носят многие люди свои фамилии, сходные с названиями разных птиц и зверушек. А эта птаха известна людям с давних пор ещё и тем, что очень дружелюбна и своим довольно скромным невинным видом и непосредственностью способна располагать к себе и завоёвывать сердца людей. Может быть, исподволь всё же фамилия человека в течение жизни оказывает на него какое-то влияние? Об этом можно было только предполагать, но во всём том, что приписывают этой скромной птице, просматривалось явное сходство с характером нашего героя.
Ещё один молодой человек, о котором пойдёт речь, Саша Казарин, приехал с Урала, а точнее из Первоуральска. Высокий и стройный шатен. Медлительный и уравновешенный. Никогда никуда не спешил. Сама внешность определяла в нём его характер. Но при всей его кажущейся медлительности, он имел какой-то внутренний темперамент, выдержанный, который в нужный момент взрывался в нём, внешне не проявляясь в физической прыти и резвости, но воплощался в неожиданное остроумие и меткость сказанного, иногда на грани сарказма. Причём, от этого никогда никому не становилось обидно, по крайней мере, за тот короткий срок с момента их знакомства такого замечено не было, наоборот, становилось смешно, – довольно редкое явление. Может быть, этим объясняется то, что он чуть ли не с первых дней был тоже одарён симпатиями своих однокашников, особенно девушек. Скорее всего, юноша и не понимал, что обладает тайным оружием обаяния, – наверное, хорошее расположение к себе со стороны своих сверстников принимал за дружбу, а она для него была, наверное, самым правильным и искренним способом общения между людьми.
Конечно, тоже не случайно Саша Казарин оказался в этом учебном заведении – романтическая натура перед окончанием школы уже подталкивала его сознание к поискам жизненного пути, где ему жилось бы комфортно и интересно, где непременно бы присутствовал дух романтики и приключений. У себя в городе он через своего дядю знал несколько охотников, общался с ними, даже пару раз напросился с ними на охоту по зайцу с гончими собаками. Его так заворожила эта охота, работа собак, их голоса, что любое упоминание об охоте впоследствии вызывало в нём волнительную, но приятную дрожь.
Как-то невзначай увидел он в книжном магазине справочник для поступающих в средние учебные заведения и купил ради интереса. Долго листал, заблудившись в названиях и профильных специальностях, но ничего не увлекло. И тут на своё счастье увидел притягивающее название одного из техникумов: Московский пушно-меховой. С жадностью стал вникать в суть и узнал впервые слово «охотовед». Оказывается, есть такая специальность, которая прямо связана с охотой. А он знал только о егерях. А тут такое!.. От радости запрыгал по комнате и поспешил поделиться с мамой – он был уже убеждён, что нашёл то, что искал, ведь его душа, которая так жаждала романтики и приключений, ещё с детства впитала в себя полюбившиеся Сказы уральского писателя Павла Бажова, жившего и творившего совсем недалеко от его родимых мест. Саша много раз их перечитывал и, кажется, даже перенял манеру разговора от героев этих книг – замысловатые, с хитринкой, остроумные реплики сами собой так и искрили порой из его уст при общении с однокурсниками. Была в нём едва уловимая загадочность и какая-то чудинка, и в то же время чувствовались не по возрасту степенность и собственное достоинство, присущие уже людям мудрым и уважаемым. Возможно, по этой причине кто-то из однокурсников когда-то назвал его Сан Санычем, случайно прознав о его отчестве. Впрочем, была и другая версия, совсем банальная: просто-напросто, в их группе собралось аж!.. шесть парней по имени Саша. Ну, надо же было их как-то называть по-разному. Вот и напридумывали разные вспомогательные склонения: кто-то стал Шурой, кого-то ласково называли Шуриком, третьего Александром, ещё одного – просто Сашей с обязательным добавлением фамилии, пятый… Но всё-таки неспроста Сан Санычу досталось величальное склонение, не смотря на то, что среди своих тёзок он был самым молодым. Первая версия всё же интереснее и не будем переписывать историю, это сути не меняет. Так и пошло: Сан Саныч да Сан Саныч. Впоследствии до того все привыкли к такому обращению, что другого имени будто и не существовало – Сашей его никто и не называл. Может быть, в глубине души Сан Саныч был рад такому обороту, но внешне был абсолютно непроницаем. Но немного позднее, оставив позади колхозную эпопею, уже в процессе обучения, подпись в письмах друзьям ставил немного отличающуюся: Сам Самыч. Такая метаморфоза произошла по той причине, что в учебных материалах по курсу биологии диких животных и птиц или охотоведения встречались часто употребляемые слова: самец и самочка. Опять же с подачи «штатного» остряка, кое-кто в шутку выронил эти слова в обращении к парню или девушке. Наверное, с непривычки такое обращение резануло слух, а может, даже и негодование вызвало, но постепенно прижилось и вошло в обиход – нет-нет, да проскальзывало безобидное шутливое обращение. Чаще оно употреблялось между собой парнями факультета охотоведения. Да простят автора люди, несведущие в этой науке, если им показался в этих словах намёк на некое извращение в общении между парнями и девушками в группе. Просто здесь присутствовала обыкновенная специфика обучения, плюс студенческий юмор, и только. Сан Саныча природа не обделила этим качеством, и он без намёка на какие-либо невероятные достоинства, втихаря подписывался «Сам Самычем». Ну, куда от этого деться – история!
Прошедшие две недели «колхозной» жизни дали возможность молодёжи немного привыкнуть к обстановке и узнать друг друга. В общении появилась раскрепощённость, ребята стали позволять себе некоторые вольности. Кто-то из сокурсников невзначай подметил, что и у Сан Саныча фамилия тоже птичью напоминает – Казарин. Есть такой северный гусь – казарка – как же не знать об этом будущим охотоведам. Им не приходило в голову искать сходства между своим товарищем и тем гусем, просто была у него такая созвучная фамилия и всё тут. Но не зря люди говорили с незапамятных времён «важен как гусь» о человеке, имевшем некоторые особенные черты характера, как важность и степенность. Нельзя сказать, что Сан Саныч чересчур выделялся этим, тем не менее, всё же напрашивалось подобное сравнение. Вероятно, бросалась всё-таки в глаза эта особенность, но не отпугивала. Знать, видели в нём не того важного и злющего, гоняющегося со зловещим шипением за каждым прохожим гусака, какого мы помним с детства, а благородного и безобидного гуся-казарку, часто пребывавшего в позе дремлющего, но взирающего на окружающий мир внимательным глазом из-под крыла.
Однажды вечером, когда группа собралась в колхозной гостинице после ужина, их курский «соловей», тоже Саша, заметил нечаянно, что Кукшин и Казарин в прошлой жизни, наверное, были птичьего роду-племени. Не всем это было понятно, но многие согласились, что есть в этой шутке некие странные намёки на сходство этих двух личностей, но не в их характерах – в этом, наоборот, просматривалась разница, – а в том, что, по мнению шутников, оба они в другой жизни когда-то точно были птицами. Только вот один точно напоминал добродушную, весёлую и шуструю кукшу, своим стрекотанием привлекавшая других поживиться какой-то своей вкусной находкой, а другой своей напыщенной важностью на первых порах слегка охлаждал желание приблизиться – как известно, гусь может больно и ущипнуть доверчивого простачка.
В те осенние дни ещё трудно было ожидать от людей, едва узнавших друг друга и приехавших на помощь сельчанам, каких-то явных и заметных сближений, но симпатии уже наметились. Образовывались приятельские парочки, троечки… Девушки придумали одно развлечение, которое помогало им больше узнать друг о друге, способствовало общению: они организовали своеобразную анкету и просили каждого дать свои ответы на придуманные ими вопросы. Понятна была цель – лучше узнать друг друга, но эти выдумщицы сами того не подозревали, что, налаживая таким образом взаимоотношения в группе, они ухватились, может быть, за главную связующую нить – непринуждённое общение между людьми. Они ждали искреннего ответа, а за искренностью скрывалось как раз та самая непринуждённость и открытость. Есть искренность в общении – будут люди радоваться чьему-то счастью или сопереживать чужому горю вместе с другими, делиться самым сокровенным, сочувствовать и помогать… А нет искренности – будет формальное, по необходимости, глухое, бесчувственное присутствие рядом, так называемые сухие деловые отношения, ни к чему не обязывающие, что людям общительным это вовсе не по душе. Вероятно, мудрая Природа сама натолкнула их на эту идею, чтобы помочь раскрыть душу друг друга, тогда и годы учёбы станут лёгкими и весёлыми, дружными и впечатляющими, что запомнятся на всю оставшуюся жизнь.
Однозначно, эта анкета сыграла определённую роль в судьбах молодых людей, приютившихся в двухэтажном «особняке» колхозной гостиницы. А неуловимые флюиды, витающие между ними, уже делали своё дело. Их прикосновение никто не ощущает, но они обладают таинственной магической силой, заставляющей людей по-другому взглянуть друг на друга, заметить в нём или в ней какие-то особенности, не замечаемые до сих пор, появляется пока ещё робкое влечение к этому человеку, но крепнущее с каждым днём. И не имеет значения, какого пола эти люди, получившие «дозу облучения» этими биотоками, – внутри них происходит малообъяснимая химическая реакция. Может быть, выглядит это и фантастически, но кто верит, скажет – это души людские соприкасаются. И дальнейшая их жизнь с этого момента становится неразрывной. Наверное, так внутри людей зарождается дружба. Возможно, вездесущая судьба тоже к этому «свои руки прикладывает». У кого-то такое происходит навечно, у кого-то на небольшой отрезок времени по разным житейским причинам. Кто-то становится попутчиком на долгую дорогу, а кто-то до первого перекрёстка.
Сие лирическое отступление, конечно, не является истиной. Несомненно, другие люди, например поэты, находят и другие объяснения такому явлению. Бога ради, главное, чтобы это чувство было. Если есть на свете дружба между людьми, значит, это чувство необходимо. Без него люди, как и без любви, тоже жить не могут.
Уборка картофеля затянулась – мешали переменные дожди. С утра поманит погодка ясным солнышком – спешно выгоняют технику на поле: картофелекопалка успеет пройти несколько гектаров, вывернет клубни наружу и удалится. Приходит черёд дешёвой рабочей силе в лице студентов. Те становятся в ряд парами, и давай собирать картошку в мешки. И только развернётся удаль молодецкая, начнут расти вереницей полные мешки вдоль по рядам, как начинает тихонечко накрапывать дождик. Едва успевают ряды пройти – поле становится грязным, труднопроходимым. Всё, трудовой день окончен. Тут и кроется беда: норма-то ведь остаётся не выработанной, а поле, соответственно, неубранным, и основной урожай пока в земле томится. И как следствие, оттягиваются дни отъезда утомившихся неустроенной деревенской жизнью студентов на зимние квартиры.
В один из таких очередных обманчивых дней высыпала молодёжь на поле. Снова разделились по двое. Как-то само собой получилось, что Казарин оказался в паре с Кукшиным. Стартовали. По небу плыли многочисленные облака, которые периодически то закрывали, то снова открывали солнышко, будто кто-то на небесах играл необъятными шторами, двигая их туда-сюда. Где-то на горизонте облака скучивались, расширяясь в своих размерах, образовывали сплошную тёмную массу, которая неумолимо надвигалась на работавших внизу людей. И волокла за собой от горизонта седую пелену с проблесками серебрящегося на солнце дождика. Люди, увлечённые работой, этого пока не замечали, весело переговаривались с напарниками или перекидывались шуточками с соседними парами.
И Сан Саныч, и Ваня упирались во все лопатки, старались быстрее заполнять мешки, особо не обращали впопыхах внимания на соседей, не интересовались, как у них продвигается рядок. И тут Казарин, разгибая спину, непроизвольно осмотрелся и, вдруг, обнаружил, что они отстали от «соратников» – они были самыми последними. Он обернулся к Кукшину – тот усердно выгребал руками и ногами завалявшиеся в земле картофелины и складывал их в ведро – почему-то не все клубни оказались на поверхности, приходилось их вышаривать в земле.
– Кукша, ты посмотри, что творится, мы же с тобой последние тащимся. Давай веселее, – произнёс Сан Саныч, неожиданно поймав себя на мысли, что напарника Кукшей назвал и немного стушевался. Он не знал, как тот отреагирует на такую дерзость. А Кукшин как работал, так и продолжил, не поведя ухом. Может, потому что Сан Саныч произнёс эти слова как-то уж очень непринуждённо и по-простому, – со стороны могло показаться, что они давно уже знакомы, много лет, – выглядело вполне обыденно.
– Ничего себе, куда ещё веселее? – Не отвлекаясь от дела, Кукшин ответствовал напарнику. – И так весь в мыле. Ты, Санёк, сам-то шевелись, а то созерцать взялся, кто сколько прошёл. Всё, что есть, всё наше. Сделаем. Только не понятно, почему мы с тобой хуже их работаем? Как-то неудобно перед ребятами.
Иван ощутил, что от нового обращения к себе повеяло чем-то домашним, он вспомнил, что его в школе тоже Кукшей звали. Ему, вдруг, показалось, что с Санькой они учились вместе в школе и поступили потом вместе в техникум. Почему-то ему захотелось его называть только Санькой, а не Сан Санычем, как уже кое-кто начал его так величать в группе.
На финишном краю поля уже собрались все сокурсники. А двое молодцев всё ещё копошились на последних десятках метров до финиша. Ваню раздирало любопытство, отчего они так медленно работают, а вся группа уже закончила свои отведённые гектары и стоит в ожидании этих двух нерасторопных увальней. Думал про себя, ковыряя землю: «Санька весь в мыле, я тоже – хоть выжимай. Работаем, что есть силы. Стыдно даже». Выпрямился, огляделся, назад посмотрел. Что-то ему показалось странным. Ещё раз взглянул назад, посмотрел по сторонам, и к нему пришла догадка: «Едрёна корень, у нас в ряду мешки с картошкой меньше, чем через десять метров стоят, а у них… а у них-то!.. Ёка-ле-ме-не!.. Получается, у нас в два раза больше мешков собрано?!».
– Санёк, посмотри назад, оглянись. Да, оторвись ты, наконец, от этой картошки… Вот, почему мы отстали. Смотри, сколько мешков по нашему ряду стоит и сколько на соседних… Вот, халтурщики!.. Мы с тобой картошку до единой выбираем из земли, землю ворошим, стараемся. Конечно, времени много уходит. Вот, в чём секрет. А они, что, разве не так делают? Или в нашем ряду больше картошки уродилось? – В его наивных глазах застыл немой вопрос.
– Ну и ладно. Наверное, так и есть – больше уродилось. Нам просто не повезло. Если бы норму назначали от количества собранного, а не от пройденных гектаров, то мы были бы первыми. Зато сейчас торопиться уже не надо. Подождут. А до дождя мы успеем! – Спокойно оглядев горизонт, как ни в чём не бывало, проговорил Сан Саныч, словно гусь-казарка прогоготал, продолжая в том же темпе выковыривать картошку из земли.
– Подождут, до дождя… га-га-га, га-га-га, – передразнил своего товарища Иван и, не сдерживая смеха, добавил, – …гусь ты мой, лапчатый…
В этот момент уже оба захохотали на всё поле, явно удивив своих однокурсников, ожидавших их с великим нетерпением на краю поля и жаждущих до дождя покинуть его.
Как знать, может быть, в этот момент и зародилось между ними то сокровенное чувство, что дружбой зовётся.
4
Наконец, страда колхозная – уже явно надоевшая и утратившая свой недолгий романтизм – закончилась. Обратно ехали они всё тем же маршрутом и на том же автобусе. Вновь кто-то попытался завести настрой всей компании теми же знакомыми песнями, но они, зазвучали не совсем задорно и весело, как это было по пути в колхоз, хотя повод для веселья был подходящий и долгожданный: всё-таки миссию свою они выполнили, картофель убрали. Сказывалась, видимо, накопившаяся усталость от бытовой неустроенности и рутинной обязанности: идти с утра на поле в промозглую сырость и «добывать» картофель из сырой земли. Напрашивалось и другое предположение, – хотя и могло показаться немного странным, – возможно, они устали ещё и от избытка вольной и беззаботной жизни, которая, оказывается, иногда тоже может наскучить.
Что ж, зато впереди их ждал труд умственный. Теперь им предстояло вспомнить «школьные годы чудесные» и начать штудировать азы выбранной профессии. И одновременно привыкать к новым житейским условиям. Опять же, по чистой ли случайности или они так договорились, Кукшин и Казарин разместились в общежитии в одной комнате, соседствуя ещё с двумя однокурсниками. Начались обычные студенческие будни. Лекции, зачёты, семинары, лабораторные… Вступил в первую стадию курс обучения будущих охотоведов и звероводов – этап пока ещё теоретического познания мира животных и птиц, относящихся к промыслово-охотничьим видам, изучения основ охотоведения и звероводства, бухгалтерии и юридического права. Было много новых предметов, знания которых необходимы им были в будущей работе. А чем ещё может быть прекрасна пора студенческая, когда у человека за плечами нет никакой ни теоретической, ни, тем более, практической основы, а есть только то, что он вычитал когда-то в любимых книгах? Конечно, познанием нового, неизведанного, которое так увлекает, и с каждой новой лекцией ты углубляешься всё больше в заветную свою мечту. Получаемые знания усиливают юное воображение о неизвестной пока тебе профессии, и всё кажется в розовом цвете. Когда жизнь прекрасна и удивительна, когда она насыщена всевозможными интересными событиями, когда ты живёшь в среде приятных тебе замечательных людей, то не замечаешь и время.