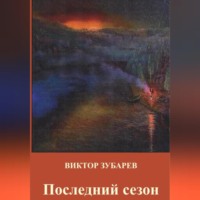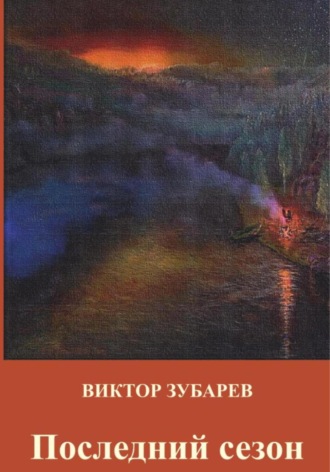
Полная версия
Последний сезон
А в это время в паре километров ниже выходил на простор длинный гружёный караван из множества самоходных барж, надсадно тарахтящих своими двигателями. Вот, что так долго ждали все жители посёлка, и что раскрывалось под этим таинственным словом, имевшим смысл в итоге вовсе не загадочный, а вполне прозаичный, но очень нужный людям, проживавшим на реке Гремучей. Первым из-за поворота показалось пассажирское судно – так называемая «Ракета», оповещавшее своё появление громкой музыкой, звучащей из громкоговорителя на белой мачте. На палубе виднелись люди в нарядных одеждах. Когда «Ракета» подошла к оборудованному причалу, стало видно, что это артисты, наряженные в национальные эвенкийские костюмы, танцевали под бубен замысловатый народный танец. Можно было догадаться, что первое судно везло груз интеллектуальный и являлось проводником культуры в широкие массы загрубевшего местного населения.
Через полчаса показался и весь основной караван. Конца края ему не было видно. Отдельные баржи причаливали к пристани, другие, не задерживаясь, поднимались выше, протрубив гудком, одновременно приветствуя и прощаясь. Галя, машинально взялась считать количество пройденных барж, но отвлеклась и сбилась со счёта. Кто-то помог ей, подсказав, что каждый год караван состоял, к удивлению Галины, ни много ни мало, примерно, из ста барж. Чем только они не были загружены? Одни тащили различные строительные материалы, другие разную технику, третьи загружены были продовольственными и промышленными товарами для магазинов. Особо выделялись топливноналивные баржи. Всё это обилие предназначалось жителям всех населённых пунктов, расположенных вдоль реки, на всём её протяжении до районного центра Варварино – никто не должен быть обделён. Посёлку Дужному также предназначалось несколько цистерн дизельного топлива для нужд местной дизельной электростанции, бесперебойная работа которой поддерживала всю цивилизованную жизнь в этом глухом таёжном уголке. Причалившие здесь ненадолго баржи оставят часть груза: топливо, оборудование, может быть, какую-то технику, – и, слегка облегчённые, пойдут дальше, догоняя основной караван. Не одни сутки он будет тащиться вверх, с разными интервалами несколько дней и ночей проходящие баржи будут будить тишину окрестных мест. Останется лишь одна, которая была приписана к их посёлку, – из года в год этот порядок был неизменным, а капитана и экипаж судна почитали как старых добрых друзей. На борту было написано крупными буквами «Славянка».
Местных жителей больше всего интересовало как раз то, что будет выгружаться с этой баржи. Ассортимент продовольственных и различных промышленных товаров первой необходимости, и прочей мелочёвки на ней был довольно богат по меркам не избалованных и не притязательных таёжников. Главное, что им необходимо было в первую очередь – это пополнить уже оскудевшие запасы соли и сахара, муки и разных круп; побаловать детишек сладостями, купить им обновки. Была тут и бытовая техника, и мебель. Много было и из того, что требовалось рыбакам и охотникам. «Славянка» будет стоять в их «порту» до полной разгрузки.
Караван всегда спешно удалялся, рассчитывая по графику дойти до райцентра, выгрузиться и успеть вернуться ещё по большой воде, иначе река может стать не судоходной, даже уже для разгруженных и облегчённых барж. Ведь Гремучая только в весенний паводок сильна и глубока, а как схлынет основной паводок – становится мелководной для таких судов. Старожилы говорили: случалось такое иногда, что баржи на всё лето здесь застревали, а если вода из-за отсутствия больших дождей так и не поднималась, то баржам приходилось и зимовать здесь на реке, близ посёлков. Бывало, что даже до Варварино в некоторые года не доходили – вода резко падала и судёнышки садились на мель. В общем, такое явление, как весенний проход каравана по Гремучей – было настоящей эпопеей для всех его участников.
В день прибытия к вечеру на «культурном» теплоходе организовывался концерт. Обязательными были и лекции на разные темы – как без этого, надо же просветить отсталых людей всякими новыми открытиями в области науки, да о политической обстановке в мире не забыть рассказать, будто у людей здесь не было телевизоров. Затем «Ракета» спешно снималась со швартов и уходила вдогонку основного каравана, неся культуру следующим по реке жителям. А «Славянка» становилась на некоторое время местом паломничества здешних жителей: люди шли в гости к приветливой команде баржи – по такому случаю даже накрывали щедрый стол в кают-компании. Играли в футбол и волейбол с командой «Славянки».
В магазине, оборудованном в одной из кают, шла бойкая торговля. Женщины толкались возле рядов развешенных нарядов: их интересовали платья и обувь, детская одежонка. Затем они уж выискивали глазами всё, что могло пригодиться для домашнего обихода, для кухни. Мужская половина, то есть добытчики в основном, могли здесь разжиться многими товарами для охоты: и боеприпасами, и капканами, некоторыми дефицитными запчастями для снегоходов и лодочных моторов, одеждой и прочим снаряжением.
Из года в год капитаны самоходок почти не менялись, и местные жители часто заказывали им на будущую навигацию привезти что-то дефицитное. И те держали слово, исполняли заказы по мере возможности и привозили долгожданные вещи или инструменты, даже некрупную мебель. С неких пор между речниками и таёжниками завязались добрые дружеские взаимоотношения. Взамен таёжный народ предлагал свой товар: чаще солёную и копчёную рыбу, кедровые орехи, мочёную бруснику и клюкву – всем, чем Бог послал из таёжных закромов. Кое-кто предлагал свои поделки из бересты и дерева. Не обходилось и без подарков с обеих сторон. В общем, нормальные человеческие отношения. Шёл валовый обмен товаром, предлагаемым местными жителями, на товар, привезённый из цивилизации.
Три-четыре дня держалась праздничная атмосфера, постепенно затухая, переходя в обыденность. Столько же примерно разгружалась и баржа. Всё, что ожидалось с прибытием каравана – ну, почти всё, – было закуплено местным населением, запросы мало-мальски удовлетворены, и снова жизнь в посёлке входила в своё обычное русло – каждый занялся своим делом.
6
Надвигалась летняя пора, притягательная живописной красотой благоухающей тайги, радующей людей урожаем грибов и ягод, а ещё короткими тёплыми летними ночами, наполненными запахами трав и вяленой рыбы. Тёплые речные волны ласкали руки рыбаков, пропадавших на реке сутками об эту пору. Не было в посёлке равнодушных к этому занятию, даже многие женщины научились хариусов вытягивать из стремнины переката, а о ребятне вообще говорить не приходилось – целыми днями в каникулы пропадали на речке. Мужчины в период межсезонья жажду по охоте утоляли удачной рыбалкой. Слава Богу, что речные просторы позволяли: хоть вниз по реке, хоть вверх. А то и в малые речушки, впадающие в Гремучую, забирайся – везде без улова не останешься, богаты местные реки разной рыбой. Старался таёжный народ запастись рыбкой: солили, вялили, коптили.
Были у добытчиков и другие заботы, кроме охоты и рыбалки, – нужно было уделить внимание домашнему хозяйству, слегка пошатнувшемуся без мужского ухода во время охотничьего сезона. Кому-то надо было забор починить, повреждённый высокими паводковыми водами, кому-то обвалившийся погребок укрепить, кому-то новую баньку поставить. Да на огородах ещё хлопотали те, кто более прилежен был к этому земному труду.
Сан Саныч к полудню причалил к берегу, устало спрыгнул на каменистую отмель и вытащил лодку дальше на берег. Разгружать не стал, а только вытянул из носового отсека тяжёлый рюкзак, затем достал большой полиэтиленовый мешок и осторожно положил на землю. Мешок оказался живой, вдруг затрепыхался, зашелестел и покатился, было, к воде, но спешно был перехвачен цепкими руками Сан Саныча. Тот с усилием закинул рюкзак за плечи и, подхватив шевелящийся мешок, тоже хотел закинуть его на спину, но не получилось – что-то увесистое и непокорное таящееся в мешке не давало это сделать. Пришлось тащить его волоком.
Уже дома он с довольной улыбкой гордо вытряхнул из мешка огромную рыбину: на деревянных подмостках широко раскрывая пасть и яростно, в агонии, двигая жабрами, изгибался из последних сил почти полутораметровый таймень. Сан Саныч окликнул жену, с явным намерением удивить её своим уловом, затем взялся обмерять рыбину. Потом сходил в сарайчик и вынес большой безмен, подвесил его на жердь. Кряхтя и демонстративно напрягшись, поднял её к весам и зацепил на крюк. Послышался его восторженный возглас:
– Вот, ничего себе! Почти тридцать килограммов потянул. Я ещё такого ни разу не ловил. Для меня рекорд. А как я с ним боролся… Наверное, около часа вываживал, думал, сорвётся… Ох, силён, таймешка!
Вечером по этому поводу в доме Казариных был устроен праздник. О том, что Сан Саныч словил такого «крокодила» на рекорд, тут же весь посёлок был в курсе – сорока на хвосте эту весть разнесла мигом. Всем любознательным захотелось удостовериться: а не байка ли поплыла по посёлку – такое бывает среди рыбаков. А в самом ли деле такой огромный, что стоит о нём говорить? Местные рыбаки многое видали, удивить их трудно. Дом Сан Саныча претерпел настоящее паломничество благодаря его удачливой рыбалке. Наш герой терпеливо, с едва скрываемой гордостью, но, всё же прибегая к некоторым усилиям, чтобы показать себя спокойным и бывалым рыбаком – демонстрировал свою добычу. По свидетельствам многих односельчан его улов был признан почти рекордным, но нашлись-таки «очевидцы», которые якобы видали экземпляры и побольше, но это было где-то, когда-то, там… Пожалуй, один достоверный факт преподнёс только Карел: ради такого случая он прихватил из дома засушенное чучело головы тайменя, пойманного им в давнее время. Судя по этому чучелу, пусть даже и изрядно усохшему от прежних величин, можно было предположить, что он, наверное, не уступал свежепойманному, но каков был истинный вес того, древнего – увы, Карел, оспорить не решился, точно уж и не помнил. Так рекорд и остался за Сан Санычем до поры, до времени.
Когда многочисленные гости и любознательные удалились с нечаянного импровизированного представления и растворились во тьме ночной, Сан Саныч с Иваном остались одни в кругу своих жён. Так уж повелось с момента семейной жизни – всеми радостями они делились друг с другом. Делились они постоянно и тем, чем Бог послал: что-то с огорода, если первые огурчики в теплице поспели или кто-то в тайге грибов удачно насобирал, обязательно делились лосиным и медвежьим мясом зимой, кедровыми орешками друг друга угощали, рыбкой, хотя и тот, и другой оба были неплохими рыбаками. С лёгкой руки Сан Саныча весь таймень разошёлся по рукам: досталось и Кукшиным, и многим из любопытных посетителей.
Иван позвал друга выйти на крылечко, пока женщины прибирали со стола. Присев на ступеньку, приглашая Сан Саныча, проговорил:
– Помнишь, Санёк, в прошлом году день рыбака отмечали в июле? Нынче его так же будут праздновать. Нам надо чего-то придумать, чтобы было поинтереснее. Как ты думаешь? Вот твой рекорд надо как-то в этом деле использовать. Может, какой-то конкурс организовать?
Сан Саныч слегка удивился преждевременности вопроса, ведь на дворе ещё июнь, но подумал: для них с Кукшей оказалось приятной неожиданностью, когда они впервые узнали, что в этом посёлке существует традиция – празднование Дня рыбака. В первые годы их проживания здесь они не придавали особого значения этой местной традиции. Да, они были вместе со всеми, присутствовали, радовались и удивлялись, что местные таёжные люди вовсе не дикие и не замкнутые, а наоборот, живут полной жизнью, с открытой душой, почитая многие праздники и умея правильно веселиться. Помимо Дня рыбака жители ждали и другие праздники, заранее готовились к ним. Особо почитаемым и обязательным был День охотника, отмечаемый в феврале, очень ответственно и с душою подходили к встрече Нового года, любили Масленицу и Пасху, даже не забывали о Дне молодёжи. А ещё новосельцы уже успели стать свидетелями одного местного праздника, с оттенком национальных традиций коренного народа – эвенков, под названьем «Суглан», посвящённого подведению итогов прошлого сезона и началу нового. В общем, традиции в этом посёлке были крепкие, поэтому сам Бог велел им слиться вплотную со старожилами и быть не отличимыми от них. Но осталось впечатление у обоих, что надо придумать что-то ещё интереснее. Как выразился Сан Саныч, уж чего-чего, а у тебя, Кукша, голова на этот счёт работает.
– Кстати, а ведь в следующее воскресенье День молодёжи празднуют, – спохватившись от неожиданной мысли, проговорил Иван. – Вот удивительное дело, до приезда сюда я об этом празднике как-то забывал, точнее, проходил он как-то незаметно, разве что по телевизору о нём говорили. И всё. Нет, о том, что такой праздник есть, знал, но проходил он мимо меня стороной. А ты помнишь о таком празднике? А здесь, смотри-ка, говорят о нём и готовятся, мероприятия какие-то будут. В прошлом году я его не застал, уезжал на родину в это время. Я тебе рассказывал, помнишь? – Помолчав, Иван неожиданно перекинулся на другие воспоминания. – На Сходню меня тогда занесло, и ребят из той нашей первой группы кое-кого встретил. Да, удивительное совпадение тогда произошло. Слушай, Санёк, а ведь я нашу группу, ту, первую, 1978 года, своей считаю больше, чем ту, в которую после армии влился. А ты как? Не знаю, почему, но она мне как-то роднее что ли.
– Если честно, то и мне она роднее, хотя и вторую группу обижать не стоит, там все ребята и девчата тоже хорошие. Мы вот с тобой даже нашли здесь свою судьбу. Но первая, есть первая, как первая любовь, что ли… – В унисон, задумчиво и философски произнёс Сан Саныч. Потом, вдруг, встрепенувшись, вдохновенно продолжил, – надо будет письма отписать Ольге, Игорю, Сашкам… Почту освежить и загрузить их своими трудами.
– Да, точно. А то мы тут обросли уже мхом таёжным, увлеклись романтикой, о друзьях-однокурсниках как бы не забыть. Но, кажется, мы с тобой отвлеклись от темы, давай подумаем о предстоящих праздниках. Надо что-то своё внести в здешние традиции, чтобы не скучно было.
– Как-то с бухты-барахты в голову ничего не приходит, надо обмозговать, время ещё есть. А какой конкурс? Какие-то соревнования придумать по рыбалке? Я уже больше о рыбалке думаю. Можно… В общем, надо подумать. А ко Дню молодёжи уже не успеть что-либо придумать, мало времени осталось до него. Может, ты чего нарисуешь?
Ещё немного посидели, помечтали и разошлись по домам. Особо в голове ничего не отложилось, но оба ушли озадаченные – идея обоим пришлась по душе и уже не давала покоя.
Наутро ни свет, ни заря в ворота дома Казариных кто-то громко постучал, послышался через минуту окрик:
– Ей, Казарины, хватит дрыхнуть. Всё ещё спите что ли? – Сан Саныч узнал голос друга. Хоть оба и были ранними пташками, и хозяин дома давно уже был на ногах, суетился по хозяйству – всё же столь раннее посещение друга удивило Сан Саныча и вызвало некоторое неудовольствие в нём. Не любил он, когда его отвлекали от приятных хлопот по огороду – в это время он занимался поливкой. Собаки заполошно залаяли, не признав по голосу в раннем госте старого знакомого.
– Здесь я, на усадьбе. Сюда иди. Раскричался, всю деревню на уши поставил, – не скрывая недовольства, крикнул Сан Саныч, затем цыкнул на собак, успокаивая. – Да замолчите вы, ошалелые, не признали Кукшу что ли.
В калитку со двора протиснулся Иван. Лицо его сияло, как ясно солнышко в погожий день. Сан Саныч не удержался:
– И чего тебя в такую рань принесло, случилось чего? А уж физиономия-то вся расплылась от удовольствия… Ха-ха, – хмыкнул Сан Саныч. – Ты, никак чего-то придумал, да такое, что и терпенья не хватило, побежал поделиться. Ну, давай рассказывай.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.