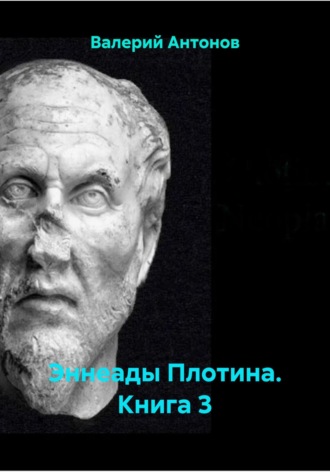
Полная версия
Эннеады Плотина. Книга 3
Объяснение:
Чувственный мир не является результатом ошибки или злого умысла. Его возникновение – необходимое и неизбежное следствие сверхизбыточной мощи и совершенства Первоначала. Единое, будучи абсолютно полным, «изливается», порождая Ум, который, в свою очередь, будучи полным, порождает Мировую Душу, а та, осуществляя свой творческий принцип (Логос), формирует материальный космос. Этот мир по своей природе вторичен, он существует «на периферии» бытия, и потому в нем ослаблено единство, царящее в Уме. Его главные характеристики – разделенность, множественность и, как следствие, конфликт. Сущности здесь обособлены, их интересы сталкиваются, что порождает «вражду». Несовершенство есть неизбежная плата за удаленность от Источника.
Комментарии:
Прокл: В «Первоосновах теологии» формулирует универсальный неоплатонический закон: «Всякая производящая причина благодаря своему превосходству производит низшее себе и сообщает подобающую сущность тому, что занимает следующее после нее место». Таким образом, наш мир не мог "не" возникнуть, и он не мог быть таким же совершенным, как его причина. (Прокл, "Первоосновы теологии", 72).
С. С. Аверинцев: Указывает, что эта модель «истечения» (emanatio) снимает с высшего начала моральную ответственность за несовершенство низшего. Зло и конфликт – не положительная сущность, а «лишенность» (στέρησις) блага, естественное состояние предельной удаленности от света Единого. Это онтологическая, а не моральная категория.
Не-намеренность творения и природа божественной силы.
Текст Плотина: Этот мир возник не по расчету необходимости, но по природе второй реальности, ибо первичный мир не мог быть последним. Он был первым, обладал всей силой, и эта сила состояла в том, чтобы творить иное без стремления творить. Если бы он стремился, то не имел бы этой силы от себя, но был бы подобен ремесленнику, не владеющему мастерством, а заимствующему его извне.
Объяснение:
Это ключевой момент для понимания неоплатонической концепции провидения. Творение не есть сознательный, волевой акт, подобный решению ремесленника что-то построить. Сознательное стремление творить свидетельствовало бы о "недостатке": о наличии нереализованного желания. Высшие принципы абсолютно самодостаточны и не имеют никаких неудовлетворенных желаний. Их творческая мощь – это непроизвольное и естественное следствие их собственного совершенства и избытка силы, подобно тому как солнце светит не потому, что «решило» светить, а в силу своей природы. Это спонтанное, ненамеренное и вечное «излучение» (ἔκλαμψις).
Комментарии:
Плотин (Энн. V.4.1): «[Единое] пребывает в покое, а [все] происходит от Него, когда уже не может оставаться в Нем, но изливается, и это излияние оказывается чем-то отличным от Него».
Пьер Адо (французский историк философии): Подчеркивает, что это различие между «творением по природе» и «творением по расчету» фундаментально. Оно отделяет неоплатонизм от креационистских религий. Провидение, таким образом, – это не исполнение божественного «замысла», а вечное присутствие причины в своем следствии, которое обязано ей своим существованием и порядком. (Hadot P. "Plotinus or the Simplicity of Vision". Chicago, 1993, p. 45).
Роль Ума и Логоса в формировании космоса.
Текст Плотина:
Ум, отдавая часть себя материи, оставаясь неподвижным, творит все. Этот принцип исходит от ума. Истекающее от ума – это логос, и он всегда истекает, пока ум присутствует в бытии.
Объяснение:
Ум не «работает» с материей напрямую. Он пребывает в себе, в состоянии чистого самосозерцания. Его творческая активность опосредована Логосом (λόγος) – творческим принципом, разумной организующей силой, которая исходит от Ума и несет в себе его отпечаток. Логос – это закон, форма и порядок, который налагается на бесформенную материю, чтобы создать упорядоченный космос. Важно, что Ум при этом «остается неподвижным» и не умаляется, ибо он отдает не «часть себя», а свою энергию, свой образ – Логос. Этот процесс вечен: пока существует Ум, вечно изливается и его Логос.
Комментарии:
Филон Александрийский (I в.): Его учение о Логосе как посреднике между Богом и миром оказало значительное влияние на последующую философию, включая неоплатонизм. Однако у Филона Логос чаще выступает как личный посредник, тогда как у Плотина – как безличный творческий принцип.
Т. Ю. Бородай: Объясняет, что «отдавая часть себя» – это метафора. Речь идет не о разделении сущности, а о сообщении формы. Ум действует как парадигма, а Логос является динамическим аспектом этой парадигмы, ее силой оформления. (Комментарий к трактату 2 (III.2)).
Аналогия с семенем и природа космической гармонии.
Текст Плотина:
Как в семени все содержится вместе, ничто не противоречит друг другу, но когда оно развивается, части занимают разные места, мешают друг другу, уничтожают одна другую, – так и из единого ума и его логоса возникла эта вселенная, разделилась, и по необходимости одни части стали дружественными, другие – враждебными. Одни по своей воле, другие против воли вредят друг другу, уничтожаясь, дают жизнь иным. Но над всем этим царит гармония, где каждый звучит своим голосом, а логос создает единый порядок.
Объяснение:
Плотин использует яркую аналогию, чтобы объяснить, как из единства рождается конфликтный, но гармоничный порядок. В Логосе, как в семени, все формы будущего космоса пребывают в состоянии нераздельного единства и непротиворечивости. Однако при воплощении в материи, которая есть принцип разделения и множественности, эти формы обретают отдельное существование. Их интересы и природные функции начинают сталкиваться (хищник и жертва, стихии). Этот конфликт – не хаос, а часть общего замысла. Подобно тому как в музыке диссонансы и консонансы, низкие и высокие ноги, сливаются в единую гармонию, так и конфликты в мире, включая страдания и гибель отдельных существ, подчинены высшему порядку и красоте целого. Частное зло оборачивается всеобщим благом.
Комментарии:
Готфрид Вильгельм Лейбниц (немецкий философ XVII-XVIII вв.): Его концепция «предустановленной гармонии» и тезис о том, что мы живем в «наилучшем из возможных миров», прямо восходят к этой неоплатонической идее. Лейбниц развил мысль о том, что каждая монада отражает всю вселенную со своей точки зрения, и кажущиеся конфликты разрешаются в гармонии, установленной Богом.
А. Ф. Лосев: Видит в этой аналогии глубокую диалектику: единство (Ум) необходимо переходит в свою противоположность – множественность (космос), но эта противоположность снимается в новом, более сложном единстве – в мировой гармонии, управляемой Логосом. Зло и конфликт являются необходимой ступенью в самораскрытии абсолютного. («История античной эстетики», т. VI).
Смешанная природа чувственного космоса и управление необходимостью
Текст Плотина:
Этот мир не таков, как ум и логос, но причастен им. Поэтому он нуждается в гармонии, сочетающей ум и необходимость. Необходимость тянет к худшему, к неразумности, ибо она лишена логоса, но ум все же правит ею. Умный логос един, и не может быть иным. Если возникает что-то иное, оно должно быть меньше его, не логосом, но и не чистой материей – ибо та бесформенна. Это смешение.
Объяснение:
Чувственный космос – это гибрид, соединение двух начал: 1) принципа разумного порядка (Логоса, идеи) и 2) принципа бесформенной, инертной и пассивной материи (ἀνάγκη – необходимости). Материя сама по себе есть «не-сущее», потенция для принятия формы, но также и источник сопротивления, инерции и «ухудшения» формы. Поэтому космос не может быть идеально совершенным. Однако Логос не устраняется материей, а «управляет необходимостью», подчиняет ее себе, заставляя даже слепые и механические законы материального мира служить осуществлению разумного плана. Космос – это «смешение», где Логос налагает порядок на беспорядок, форму на бесформенное, создавая тем самым прекрасный и упорядоченный, хотя и не абсолютно совершенный, чувственный мир.
Комментарии:
Платон («Тимей» 47e-48a): Плотин прямо следует за своим учителем, который вводит понятие «Необходимости» (Ἀνάγκη) как «второй причины» наряду с Умом (Νοῦς), с которой Уму приходится «убеждать» и которой нужно «управлять» для создания космоса.
Эмиль Брейе: Комментируя этот пункт, пишет, что материя у Плотина – это не просто пространство, а метафизический принцип инертности и инаковости. Победа Логоса заключается не в уничтожении материи, а в ее полном оформлении, в превращении ее из потенции в акт, насколько это возможно для нее. Брейе называет это «драмой воплощения идеи». (Bréhier É. "La philosophie de Plotin", p. 102-105).
Ю. А. Шичалин: Подчеркивает, что учение о «смешении» показывает статус чувственного мира как среднего звена в иерархии бытия. Он хуже, чем умопостигаемый мир, но бесконечно лучше, чем чистая материя. Его существование оправдано как максимально возможное воплощение идеи в материи.
Защита совершенства Космоса и его Творца
Текст Плотина:
Мир в его целостности не может быть признан некрасивым или несовершенным, а его Творец (или Первопричина) – некомпетентным. Это утверждение основывается на двух ключевых моментах. Во-первых, мир порожден не в результате сознательного "плана" или "расчета" (как у ремесленника), а по необходимости иной, высшей природы – эманации Единого, которая, переполняясь, естественно и ненамеренно рождает подобное себе (Ум, а затем и Космос). Во-вторых, даже если бы мы допустили акт творения по расчету, результатом стало бы целое, прекрасное, самодостаточное и гармоничное, где каждая часть, главная или второстепенная, занимает подобающее ей место.
Ошибочно судить о целом, ориентируясь на отдельные, особенно малозначительные, части. Ценность части определяется ее ролью в целом, а не наоборот. Критик, указывающий на несовершенство отдельных элементов (например, хищных животных или уродливых людей), подобен тому, кто, рассматривая человека, видит лишь волос или палец, игнорируя красоту всего тела, или кто, отвергнув все человечество, выставляет напоказ его самого уродливого представителя (как Ферсита у Гомера).
Космос как всеобъемлющее живое существо провозглашает свое совершенство: он совершенен, ибо произошел от Совершенного; он самодостаточен, ибо содержит в себе все формы жизни – растения, животных, людей, демонов, богов. Все его части, от земли до эфира, одушевлены и стремятся к благу, каждая в соответствии со своей мерой и природой. Требовать, чтобы палец видел, как глаз, – абсурдно; совершенство каждой вещи заключается в точном исполнении своей собственной функции в рамках великой иерархии бытия.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий (III в. н.э., ученик и издатель трактатов Плотина):
Порфирий, комментируя этот трактат ("Эннеады" II.9 "Против гностиков"), подчеркивает, что атака Плотина направлена против гностиков, презиравших материальный мир как творение злого демиурга. Порфирий видит в этом тексте апологетику не столько "творения", сколько упорядочивающей деятельности Мировой Души, которая формирует космос по образцам-логосам, пребывающим в Уме. Он акцентирует мысль, что зло и уродство – не сущности, а лишь недостаток, отсутствие блага и формы (steresis), неизбежный на периферии эманации, где связь с Единым ослабевает. Для Порфирия совершенство целого включает в себя и существование несовершенных частей, необходимых для полноты всеобщей гармонии. "(Источник: Porphyry. "On the Life of Plotinus and the Order of His Books"; его комментарии отражены в самом расположении трактатов в "Эннеадах")".
Прокл (V в. н.э., глава Афинской неоплатонической школы):
Прокл развивает идею Плотина в более сложной иерархической системе. Он утверждает, что мир не просто "не стыден", но является блестящим откровением божественных свойств. В своем труде "Первоосновы теологии" Прокл доказывает, что всякое производящее начало порождает подобное себе и возвращает к себе свое порождение (Тезисы 28-33). Поэтому Космос необходимо прекрасен. Несовершенства отдельных вещей объясняются их материей, которая сопротивляется полному воплощению идеи (логоса). Однако провидение богов (у Прокла это уровень "Ума") простирается и на материю, организуя ее наилучшим из возможных способов. "(Источник: Proclus. "The Elements of Theology". Transl. by E.R. Dodds. Oxford, 1963. Pp. 33-39)".
Марсилио Фичино (XV в., глава Платоновской академии в Кареджи):
Фичино, переводя и комментируя Плотина для ренессансной аудитории, интерпретирует этот тезис в ключе оптимизма и прославления творения. Для него слова Плотина – прямой ответ христианским ересям, унижающим мир. Фичино подчеркивает идею "жизненности" всего сущего: "сила души простирается до моря", а воздух и эфир "не лишены души". Это хвала единой живой вселенной, пронизанной божественным светом, где все стремится к Богу. Он видит здесь обоснование для человеческого стремления к познанию и красоте, ибо весь мир есть их проявление. "(Источник: Marsilio Ficino. "Commentaria in Plotinum" (опубликованы в его переводе "Эннеад" 1492 г.))".
Современные исследователи (напр., А. Х. Армстронг, П. Адо):
Современные комментаторы видят в этом тексте фундаментальный онтологический оптимизм неоплатонизма. Армстронг указывает, что Плотин не отрицает существование зла (о чем пойдет речь), но отрицает его онтологическую значимость. Зло – это побочный продукт, "шлак" процесса эманации, не имеющий самостоятельной сущности. Совершенство целого – это совершенство системы, где даже кажущееся зло выполняет роль контраста или необходимо для полноты проявления всех возможных форм. Адо добавляет, что этический вывод из этого для человека – принять свое место в иерархии бытия и, познавая красоту Космоса, устремляться к его первоисточнику. "(Источник: A. H. Armstrong. "The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy". Cambridge, 1967. P. 243; Pierre Hadot. "Plotinus or the Simplicity of Vision". Chicago, 1993. P. 65-67)".
О природе разрушения, зла и справедливости в Космосе
Текст Плотина:
Разрушение и гибель отдельных существ в мире (как огонь, гасимый водой) не являются свидетельством несовершенства мироустройства. Это естественный процесс превращения: одно разрушается, давая жизнь другому. Высшие, бестелесные принципы (Ум, Душа) при этом остаются вечными и неизменными. Души, будучи бессмертными, лишь сменяют телесные оболочки, проявляясь в разных формах. Тела же по своей природе смертны и участвуют в вечном движении и становлении, которое берет начало в высшем, неподвижном мире.
Что касается морального зла – несправедливостей, совершаемых людьми, – их причина коренится не в злой воле Творца, а в свободной воле самих людей. Стремясь к благу (ибо все стремится к благу), они в силу неведения или слабости ошибаются в выборе средств и обращаются к мнимым, низшим благам (например, к богатству или власти за счет другого). Совершая несправедливость, человек наказывает себя сам, ухудшая собственную душу и обрекая ее на посмертное падение в худшие условия существования. Это – действие неотвратимого космического закона воздаяния.
Порядок и закон существуют не "ради" беспорядка, а "вопреки" ему. Беспорядок и беззаконие – это не цель, а неудача, результат того, что низшая материальная природа или свободная воля не смогла в полной мере воспринять и воплотить высший порядок и благо либо из-за внутренней слабости, либо из-за внешних препятствий. Наклонение воли ко злу – это всегда малый первоначальный выбор, который, не будучи исправлен, разрастается, увлекаемый телесными желаниями. Страдание порочного – это справедливое следствие его выбора, а не внешняя несправедливость. Счастье – удел только добродетельных, ибо оно является внутренним состоянием души, а не внешней наградой.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий:
Порфирий, будучи также автором "Сентенций", развивает этические аспекты учения Плотина. Он акцентирует идею самонаказания души. Для него наказание за порок – не внешняя кара, а немедленное и неизбежное внутреннее помрачение и страдание души, которая отдаляется от своего истинного источника (Ума и Единого). Посмертное нисхождение в худшие тела (реинкарнация в животных) является логическим следствием и внешним выражением того внутреннего состояния, которого душа уже достигла при жизни. Порфирий видит в этом строгую и безличную работу космической справедливости (dike). "(Источник: Porphyry. "Sententiae ad intelligibilia ducentes" (Сентенции, ведущие к умопостигаемому). §32, §40)".
Прокл:
Прокл в "Первоосновах теологии" дает более метафизическое объяснение. Он вводит принцип: "Все то, что первично причиною для чего-либо доброго, само в большей мере причастно этому добру" (Тезис 72). Поэтому Первопричина (Единое) не может быть причиной зла. Зло, по Проклу, "паразитирует" на благе. Оно возникает на самом низшем уровне сущего, где сила блага ослабевает, а материя сопротивляется форме. Таким образом, зло не имеет собственной "идеи" или причины, оно – лишь побочный эффект, "сбой" в процессе нисхождения блага. Это полностью снимает с Творца ответственность за моральное зло. "(Источник: Proclus. "The Elements of Theology". Тезисы 72, 115-116. Pp. 67-69, 101-103)".
Марсилио Фичино:
Фичино, комментируя этот трудный аспект учения Плотина, стремится согласовать его с христианской теодицеей. Он интерпретирует "ухудшение души" как грехопадение, а "худшие места" – как чистилище или ад. Однако ключевой для него остается неоплатоническая идея: зло не субстанциально. Фичино подчеркивает роль свободной воли человека (liberum arbitrium) как дара богов, который несет в себе и риск падения. Страдание – это не наказание гневного Бога, а лекарство (medicina) и исправление, направляющее душу обратно к благу. "(Источник: Marsilio Ficino. "Theologia Platonica", кн. XII, гл. 2)".
Современные исследователи (напр., Э. Р. Доддс, Л. П. ГерсонСовременные ученые анализируют этот тезис как попытку решить классическую проблему теодицеи. Доддс отмечает, что Плотин предлагает два разных объяснения зла: для физического мира (неудача материи) и для морального (ошибка свободной воли). Это создает некоторую напряженность в системе, но в целом эффективно снимает вину с божественного. Ллойд П. Герсон подчеркивает, что для Плотина зло – это всегда личная ответственность индивида. Даже если первоначальный толчок к греху мал, душа обладает силой сопротивляться ему. Таким образом, страдание порочного никогда не является несправедливым, а является прямым результатом его собственных choices (выборов). "(Источник: E. R. Dodds. "The Greeks and the Irrational". Berkeley, 1951. P. 254; Lloyd P. Gerson. "Plotinus". Routledge, 1994. P. 194-196)".
О пользе зла и неизбежности страдания в миропорядке.
Текст Плотина:
Если в этом мире одни души обретают счастье, а другие – нет, виновато не место их пребывания (т.е. не сам материальный космос), а их собственная слабость, не сумевшая достойно выдержать борьбу, где высшей наградой является добродетель. Нелепо ожидать, что существа, не ставшие божественными, будут вести божественную жизнь.
Такие внешние обстоятельства, как бедность и болезни, не имеют истинного значения для доброго человека, но могут быть даже полезны для порочного, поскольку, обладая телом, они неизбежно будут испытывать его несовершенство. Эти явления не бесполезны и для устройства целого, внося свой вклад в его полноту. Подобно тому как Мировой Логос использует гибель одних существ для рождения других (ничто не ускользает от его власти), так и поврежденное тело или расслабленная пороком душа подчиняются иному, но также закономерному порядку.
Таким образом, страдания приносят пользу тем, кто страдает, а сам порок, будучи наказанным, служит целому, становясь наглядным примером и пробуждая в других разумность и бдительность против зла. Важно понять: зло существует не "ради" этой пользы, но "раз уж оно возникло", Провидение умеет обратить его во благо. В этой способности – величайшая сила божественного принципа: умение преображать даже злое и безобразное, придавая им новые, полезные для гармонии целого формы. В сущности, зло следует считать не самостоятельной силой, а недостатком (лишенностью) добра. И этот недостаток здесь неизбежен, поскольку материальный мир – это область иного, периферия божественного света, где его сила закономерно ослабевает.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий (III в. н.э.):
Порфирий, комментируя этот аспект учения, делает акцент на аскетической и педагогической функции зла. Для него бедность и болезни – это инструменты, которые помогают душе отрешиться от телесного и вспомнить о своей истинной, умной природе. В своем труде "Воздержание от одушевленных" он развивает мысль, что страдание, вызванное телесными обстоятельствами, является уроком, побуждающим к философской жизни. Порок, наказанный по закону воздаяния, служит устрашающим примером (exemplum) для других, что является частью педагогики Мировой Души, направляющей души к добродетели. "(Источник: Porphyry. "De abstinentia" (О воздержании), I, 29-30)".
Прокл (V в. н.э.):
Прокл в своем комментарии к "Тимею" Платона дает более сложное метафизическое обоснование. Он утверждает, что Провидение (pronoia) простирается на все без исключения, но его действие различно. Для низших, материальных вещей оно проявляется как Судьба (heimarmene), безличный закон причинно-следственных связей. Зло и страдание – результат действия именно этого, низшего уровня providence. Однако высшее Провидение умеет "вплетать" даже последствия зла в общий благостный замысел, подчиняя необходимость высшему благу. Таким образом, польза от зла является доказательством того, что даже Судьба подчинена Провидению. "(Источник: Proclus. "On the Existence of Evils". Transl. by J. Opsomer & C. Steel. Ithaca, 2003. Pp. 40-45)".
Марсилио Фичино (XV в.):
Фичино, интерпретируя этот текст, проводит прямую параллель с христианской концепцией "О felix culpa!" ("О счастливая вина!"). Он видит в словах Плотина указание на то, что Божественное Милосердие настолько могущественно, что способно извлечь добро даже из зла. Для Фичино страдания праведников – это не наказание, а испытание, закаляющее душу и делающее ее более совершенной, подобно тому как золото очищается в огне. Процветание же злых – это отсрочка наказания, даваемая им для исправления, или, в ином ключе, – наивысшая кара, ибо оно укрепляет их в порочности, удаляя от Бога. "(Источник: Marsilio Ficino. "Platonic Theology", XVIII, 8)".
Современные исследователи (напр., П. Адо, Д. О'Брайен):
Современные комментаторы (как, например, Пьер Адо) видят здесь развитие стоической идеи о том, что "душа красива сама по себе" и не зависит от внешних обстоятельств. Страдание – это "безразличное" (adiaphoron), что приобретает положительный или отрицательный смысл лишь в зависимости от того, как его использует добродетельная или порочная душа. Дени О'Брайен, специалист по проблеме зла у Плотина, подчеркивает, что тезис о "пользе зла" не означает его оправдания. Это строго эпистемологическая и педагогическая польза: зло позволяет душам "узнать" о себе, сделать выбор и через противопоставление понять природу добра. Его онтологический статус как лишенности (steresis) при этом не меняется. "(Источник: Pierre Hadot. "Plotinus or the Simplicity of Vision". P. 70-72; Denis O'Brien. "Plotinus on the Origin of Matter". In: "Études sur Plotin", ed. M. Fattal, 2000. P. 45-46)".
О "несправедливости" в мире и пределах Провидения.
Текст Плотина:
Когда возникает ситуация, что добрые терпят зло, а порочные, напротив, процветают, правильнее всего сказать, что для подлинно доброго человека не существует подлинного зла (ибо его благо – внутри, в добродетели), а для порочного – не существует подлинного добра (ибо его душа несчастна, даже обладая богатством). Но почему же тогда то, что противоестественно для одного (страдание), становится естественным для другого (процветание злого)? Если естественное положение вещей не приносит счастья, а противоестественное не приносит истинного зла, то в чем же разница?
Более конкретные возражения: разве справедливо, чтобы добрые были рабами, а злые – правителями? Пусть это и не влияет на их внутреннее состояние, но разве не является беззаконием сам факт, что дурные люди, творя зло, побеждают в войнах и управляют другими? Все эти примеры ставят под сомнение всеобъемлющий характер божественного Провидения (pronoia).
Если же мы утверждаем, что Провидение действительно охватывает всё без остатка, то мы обязаны показать, каким образом даже эти, кажущиеся несправедливыми, явления устроены наилучшим из возможных способов и вписаны в общий миропорядок.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий:
Порфирий вновь обращается к идее закона воздаяния и метемпсихоза (переселения душ). Кажущаяся несправедливость в настоящей жизни объяснима прошлыми жизнями души. Добрый, страдающий сегодня, возможно, искупает проступки прошлого воплощения. Злой, процветающий сегодня, исчерпывает последние запасы "позитивной кармы", обрекая себя на страдания в будущем. Таким образом, Провидение действует в масштабе всей вечности жизни души, а не одного короткого земного существования. Временный успех зла – это иллюзия, если смотреть на путь души в целом. "(Источник: Porphyry. "Sententiae", §29)".











