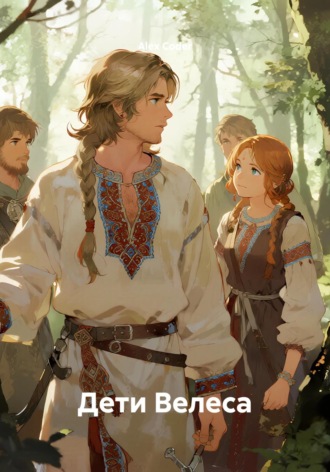
Полная версия
Дети Велеса
Когда его массивное тело скрылось в теснине, Яромир заорал:
– Камни! Тащите все, что сможете! Завалим выход!
Они работали, как одержимые. Таскали валуны, валили сухие стволы, создавая на выходе из ущелья баррикаду. Из глубины доносился рев и треск – зверь в ярости ломал все вокруг, но выбраться уже не мог. Он был в ловушке.
Когда выход был завален, они, задыхаясь, рухнули на землю. Адреналин отхлынул, оставляя после себя звенящую пустоту и оглушающую усталость.
– Мы… мы сделали это, – выдохнул Ратибор, глядя на свои разбитые в кровь руки.
– Еще нет, – ответил Яромир. – Он жив. И он в ярости.
Они осторожно подошли к краю ущелья и заглянули вниз. Картина была страшной. Лось метался в узком пространстве, как демон в аду. Он рыл землю копытами, бодал скалы, от которых отлетали куски камня. Его единственный глаз горел красным огнем.
– Сверху, – сказал Яромир. – Только сверху.
Они начали свою страшную работу. Подтаскивали к краю тяжелые камни и сбрасывали их вниз. Первый камень глухо ударился о спину зверя. Тот взревел, но не мог понять, откуда исходит угроза. Второй. Третий. Каждый удар вызывал новый взрыв ярости. Они швыряли камни, пока руки не отказались служить. Но лось все еще был жив. Он был изранен, избит, но стоял на ногах, и в нем клокотала несокрушимая жизненная сила.
– Копья, – сказал Яромир. – Теперь копья.
Это была казнь. Долгая, жестокая, кровавая. Они стояли на краю и методично, один за другим, метали вниз свои копья. Каждый удар вырывал у зверя рев, полный боли и бессилия. Ущелье превратилось в кровавую бойню. Наконец, когда Ратибор, собрав последние силы, метнул свое копье, и оно, войдя зверю под лопатку, заставило его пошатнуться, наступил перелом.
Лось рухнул на колени. Он тяжело дышал, из его ноздрей и ран текла кровь, смешиваясь с грязью. Он сделал последнюю попытку подняться, но силы оставили его. Он замер, потом медленно, тяжело завалился на бок. Еще несколько раз его тело содрогнулось в конвульсиях, и все стихло.
Победа.
Они стояли на краю ущелья, глядя на поверженное тело врага. Молча. Никто не кричал от радости. Никто не чувствовал триумфа. Пустота. Всепоглощающая, ледяная пустота.
Они спустились вниз. Зверь был огромен. Даже мертвый, он внушал трепет. Его тело было истыкано копьями, покрыто ранами и кровоподтеками. Яромир подошел и положил руку на его еще теплую шерсть.
– Прости, – прошептал он, сам не зная, кому говорит. Зверю? Лесу? Самому себе?
– Мясо… – глухо сказал Ратибор, глядя на тушу. – Много мяса… На всю зиму.
Да. Мясо. Цель их охоты. Причина, по которой они пошли на этот риск. Они победили. Они обеспечили себе выживание.
Но когда Яромир обернулся и посмотрел туда, где на поляне, под его тулупом, лежало тело их друга, он понял всю чудовищность этой сделки.
– Вот она, цена, – сказал он, ни к кому не обращаясь. Он поднял с земли окровавленный обломок деревянной лошадки. – Вот цена этого мяса.
Ратибор опустил голову. Велеслав отвернулся, и его плечи затряслись в беззвучных рыданиях.
Победа обернулась самым страшным поражением в их жизни. Они убили Хозяина леса. Но какой ценой? Они доказали, что человек, объединенный отчаянием и яростью, может одолеть даже самую могучую силу природы. Но в процессе они потеряли часть себя. Потеряли друга. Потеряли невинность.
Они стояли посреди этого кровавого ущелья, рядом с горой мяса, которое должно было стать их спасением, и чувствовали лишь одно. Горечь. Бесконечную горечь поражения. Мясо будет их кормить. Но каждый кусок, каждый глоток бульона теперь будет отдавать вкусом крови их друга. И этот вкус останется с ними навсегда. До конца их дней. Цена была уплачена сполна.
Глава
27
. Погребальный костер
Ночью ударил первый заморозок. Не снег, а именно сухой, колючий мороз, который сковал землю, покрыл траву и мох хрупким, серебристым инеем и сделал воздух чистым и острым, как лезвие ножа. В избе никто не спал. Они сидели у огня, каждый погруженный в свои мысли. Сытость не принесла покоя. Наоборот, она обострила горе, сделала его яснее. Тело, получившее пищу, перестало отвлекать на себя внимание, и вся тяжесть потери обрушилась на душу.
Рядом, на лавке, укрытое чистой шкурой, лежало тело Гостомысла. Они обмыли его холодной ручьевой водой, смыли кровь и грязь. Велеслав вплел ему в волосы несколько веточек вечнозеленого можжевельника – символа вечной жизни и защиты от злых духов. Теперь он выглядел не как жертва страшной смерти, а как уставший воин, уснувший после долгого похода. Его лицо было спокойным. Та ложь, та последняя милость, подаренная Яромиром, застыла на нем печатью умиротворения.
– Нельзя его оставлять до утра, – тихо сказал Велеслав. Его голос в ночной тишине звучал, как шелест сухих листьев. – Когда приходит первый мороз, души, не нашедшие покоя, могут замерзнуть. Прирасти к земле. И никогда не уйти на ту сторону.
– Что мы должны делать? – спросил Яромир. Голова его была тяжелой, мысли путались.
– Проводить. Как положено. По древнему обычаю. Земле его предавать нельзя. Эта земля ему чужая. Она его не примет, как своего. Только огонь. Огонь очистит и унесет его дух в небо, к предкам.
– Костер? Здесь? – ужаснулся Ратибор. Он впервые заговорил за несколько часов, и голос его был хриплым.
– Да. На той поляне, где он погиб. Это будет правильно. Его душа должна уйти с места его последнего боя. С места его… храбрости.
Это была страшная, но необходимая работа. Под покровом ночи, при свете тусклой луны, пробивавшейся сквозь поредевшие облака, они начали строить погребальный костер. Они рубили сухие сосны, таскали тяжелые поленья, укладывали их высоким, аккуратным колодцем. Они работали молча, слаженно, как три тени. Их личные обиды, страхи и разногласия казались теперь такими мелкими, такими ничтожными перед лицом вечности и смерти.
Когда костер был готов, они вернулись за телом. Несли его втроем, на шкуре, как на носилках. Он был легким. Словно жизнь, покинув его, забрала с собой и весь его вес.
Они уложили его на вершину костра, головой на запад, туда, где умирает солнце. Яромир положил ему на грудь его дубину – оружие его последнего боя. Ратибор, помедлив мгновение, снял с пояса свой лучший нож с костяной рукояткой и вложил его в правую руку Гостомысла.
– Чтобы… чтобы было, чем отбиваться. Там, – глухо пояснил он, ни на кого не глядя.
Это был его жест. Его неуклюжая, запоздалая дань уважения.
Велеслав же подошел и открыл лицо мертвеца. Он наклонился и что-то долго, беззвучно шептал на ухо Гостомыслу. Слова предков. Просьбы духам. Путеводные знаки для заблудившейся души. Затем он достал из-за пазухи два маленьких плоских камушка и положил их на закрытые глаза друга.
– Чтобы не увидел по пути ничего дурного, что может утянуть его обратно.
– А… лошадка? – спросил Ратибор, вспомнив.
– Нет, – твердо ответил Яромир, рука его невольно коснулась груди, где за пазухой лежал теплый кусочек дерева. – Лошадка – для живых. Для его сестры. Это его последнее поручение. И я его выполню.
Они встали вокруг костра. Три живые, одинокие фигуры в огромном, холодном, безразличном лесу.
– Кто зажжет? – спросил Велеслав.
Яромир посмотрел на Ратибора.
– Ты.
Ратибор вздрогнул.
– Я? Почему я?
– Ты хотел этой охоты, – тихо, но жестко ответил Яромир. – Ты жаждал победы. Ты подтолкнул его к этому. Зажги. Это твое право. И твое проклятие. Прими его.
Ратибор смотрел на Яромира, и в его глазах плескалась смесь ужаса, ненависти и… странного, искаженного понимания. Он понял. Яромир не мстил ему. Он заставлял его повзрослеть. Он заставлял его взять на себя ответственность.
Дрожащей рукой Ратибор высек искру. Сухой мох, подложенный в основание костра, вспыхнул. Маленький огонек побежал по смолистым поленьям, сначала неуверенно, а потом все быстрее и яростнее.
Пламя взметнулось в ночное небо, разгоняя тьму. Оно с ревом и треском пожирало сухое дерево. Тени от трех стоящих фигур заплясали на стволах деревьев, превращаясь в гигантских, скорбных идолов. В свете огня лицо Гостомысла на мгновение показалось живым. Казалось, он улыбается своей простой, доброй улыбкой. А потом пламя окутало его, скрыв от их глаз навсегда.
Они стояли, не шевелясь, зачарованные этим страшным, величественным зрелищем. Огонь очищал. Он сжигал не только плоть, но и их собственную вину, их ссоры, их обиды.
– Уходи с миром, брат, – прошептал Велеслав.
Яромир молчал. Он смотрел в самое сердце огня, и перед его глазами стояло не тело, а живой Гостомылс. Неуклюжий, добрый, мечтательный. Тот, что рассказывал про собаку, про мать, про девушку Раду. Он прощался не с мертвецом. Он прощался с другом. И это было невыносимо больно.
И тут он услышал рядом тихий, сдавленный звук. Он обернулся. Ратибор стоял, закрыв лицо руками, и его широкие плечи сотрясались от беззвучных, судорожных рыданий. Впервые за всю их жизнь Яромир видел, как он плачет. Не от боли. Не от злости. От горя.
Этот сильный, гордый, жестокий парень, которого с детства учили бить первым и не показывать слабости, сломался. В этот момент, перед лицом смерти и огня, вся его напускная броня расплавилась и стекла, обнажив то, что было под ней – такого же, как они, напуганного, одинокого, потерянного мальчишку.
Яромир молча подошел и положил ему руку на плечо. Не хлопая, не утешая. Просто – положил. И Ратибор не отшатнулся. Он лишь сильнее ссутулился под тяжестью этой руки и собственного горя.
Они стояли так, втроем, глядя на погребальный костер своего товарища. Живые. И объединенные не общей победой, а общей, невыносимой потерей. Огонь догорал. Утро было уже близко. Но для них троих эта ночь изменила все. Они вошли в нее вчетвером, как мальчишки, играющие в охотников. А вышли из нее – трое. Мужчины, познавшие истинную цену мяса. И истинную цену жизни. И смерти.
Глава
28
. Три тени
Утро пришло блеклое, серое, словно выцветшее. Оно принесло с собой не облегчение, а звенящую, опустошенную тишину. Костер на поляне догорел. От него остался лишь круг черной, выжженной земли и горстка седого пепла, который лениво шевелил утренний ветерок. От Гостомысла не осталось ничего. Лишь воспоминания и четвертая, пустующая лавка в избе.
Они вернулись в свой временный дом, как три старика, ссутулившиеся под невидимым грузом. Изба встретила их холодом и пустотой. Огонь в очаге почти погас, едва теплился, как и жизнь в них самих. И тишина, которая поселилась здесь, была не просто отсутствием звуков. Она стала физической. Она давила на плечи, забивалась в уши, мешала дышать. Это была тишина утраты.
Раньше в избе было четыре человека. Четыре разных дыхания, четыре разных ритма жизни. Шорох одежды, покашливание, тихое бормотание. Теперь одного не хватало. И эта дыра в звуковом полотне их маленького мира была оглушительной. Они постоянно ждали. Ждали, что сейчас хлопнет дверь, и на пороге появится неуклюжая, большая фигура. Что сейчас раздастся его простой, добродушный смех или наивный вопрос. Но изба молчала. И это молчание кричало о том, что он не придет. Никогда.
Дни превратились в безвременье. Они двигались, как во сне, выполняя необходимую работу на автомате. Рубили дрова. Носили воду. Поддерживали огонь. Ели. Мясо лося, которое теперь казалось безвкусным, как трава, они заставляли себя есть. Потому что так было надо. Потому что этого требовала жертва, принесенная ради него.
Но они не разговаривали.
Это не было умышленным молчанием. Слова просто умерли. О чем можно было говорить? О погоде? О том, что нужно чинить крышу? Это казалось кощунством. Любое будничное слово было предательством по отношению к тому, кто уже никогда ничего не скажет. Обвинять друг друга? В этом не было смысла. Все трое были виновны. Яромир – в своей уступчивости. Ратибор – в своей гордыне. Велеслав – в том, что его предупреждения оказались бесполезны. Вина, как яд, разлилась между ними, и противоядия не было.
Они стали тремя тенями, скользящими по избе.
Яромир большую часть времени проводил за работой. Он с остервенением разделывал мясо, солил его остатками соли, вялил над огнем, заготавливая впрок. В этом механическом, кровавом труде он искал забвения. Но стоило ему на мгновение остановиться, как перед его глазами вставало лицо Гостомыса и звучал его предсмертный шепот: "Я был храбрым?". И он снова брался за нож, пытаясь вырезать эту память из своего сердца, как вырезал жилы из мяса.
Велеслав уходил в лес. Он бродил по нему часами, один, собирая какие-то травы, коренья. Но казалось, он искал не еду, а ответы. Он разговаривал с деревьями, с ветром. Он пытался прочитать в переплетении ветвей хоть какой-то смысл, хоть какое-то оправдание случившейся трагедии. Но лес молчал, храня свои тайны. И Велеслав возвращался в избу с пустыми руками и еще более темным взглядом.
Ратибор… Он изменился больше всех. Он не плакал больше. Но та ночная истерика у погребального костра сломала в нем стержень. Он перестал быть хищником. Вся его напускная злость, вся его бравада исчезли, уступив место тяжелой, гнетущей апатии. Он почти не ел. Сидел часами на своей лежанке, уставившись в стену, и молчал. Он прокручивал в голове снова и снова. Тот спор. Свой уход. Лося. Удар. Крик. Он искал тот момент, ту развилку, где все пошло не так. Где можно было повернуть. Но прошлое не имело сослагательного наклонения. И это осознание давило его, как могильная плита.
Однажды вечером Яромир, не выдержав этой пытки молчанием, подошел к нему. Ратибор сидел, ссутулившись, в своем углу.
– Надо поговорить, – глухо сказал Яромир.
Ратибор медленно поднял на него пустые, выжженные глаза.
– О чем? – его голос был бесцветным.
– О том, что будет дальше. Мы не можем так. Это… это не жизнь. Мы пожираем себя изнутри. Молчанием.
Ратибор криво усмехнулся.
– А что ты хочешь услышать, вожак? Извинения? Раскаяние? Хочешь, чтобы я на колени перед тобой упал и выл, какой я подонок?
– Я хочу, чтобы ты снова стал живым, – жестко ответил Яромир. – Я хочу, чтобы ты или кричал, или дрался, или делал хоть что-то! А не сидел здесь, как кусок мяса, ожидая, пока сгниешь.
– А я уже сгнил, – тихо сказал Ратибор. – Там, в болоте. Ты вытащил тело. А все, что было внутри, там и осталось.
– Ложь. Если бы там все осталось, ты бы не плакал у костра.
Ратибор вздрогнул, как от удара.
– Я…
– Ты не железный, Ратибор. Никто из нас. Мы все виноваты. Все. Я – потому что позволил охоту. Велеслав – потому что не настоял на своем. Ты – потому что затеял все это. А Гостомылс… он виноват лишь в том, что у него было слишком большое и слишком доброе сердце для этого мира. И теперь нам с этим жить. Вместе. Понимаешь? Либо мы вытащим друг друга из этой ямы, либо ляжем в нее все трое, один за другим.
Ратибор долго молчал, глядя себе на руки.
– Я каждую ночь вижу его, – прошептал он. – Как он падает. Снова, и снова, и снова. И я слышу этот звук. Хруст… Я…
Он не договорил, задохнувшись.
– И я вижу, – так же тихо ответил Яромир. – И слышу. И Велеслав тоже, я уверен. Этот звук теперь всегда будет с нами. Это наша плата. Наша ноша. И мы либо понесем ее вместе, либо она нас раздавит поодиночке.
Он протянул Ратибору руку.
– Хватит сидеть в углу. Садись к огню. Ты один из нас. Хочешь ты этого или нет.
Ратибор смотрел на его протянутую руку, на эти мозолистые, сильные пальцы. Он смотрел на нее, как утопающий на брошенный ему спасательный круг. Он боролся с собой. Его гордыня, его привычка быть одиночкой, его ненависть к Яромиру – все это еще было живо. Но что-то другое, что-то человеческое, что-то, что хотело жить, оказалось сильнее.
Медленно, с огромным усилием, он вложил свою ладонь в ладонь Яромира.
Яромир крепко сжал ее и помог ему встать.
В тот вечер Ратибор сел вместе со всеми у огня. Он все еще молчал. Но это было уже другое молчание. Не стена, а просто тишина. Тишина человека, который начал свой долгий, мучительный путь из темноты.
Тишина в избе не стала менее невыносимой. Горе никуда не ушло. Дыра, оставленная смертью Гостомысла, не затянулась. Но они перестали быть тремя отдельными тенями, каждая из которых страдает в одиночестве. Они снова стали тремя людьми, которые пытаются выжить. И в этой мертвой, звенящей тишине зародилось нечто новое. Хрупкое, как росток, пробивающийся сквозь камень. Осознание. Что единственное, что у них осталось – это они сами. Друг у друга. И это было одновременно и их проклятием, и их единственной надеждой.
Глава
29
. Вина
Слова были сказаны. Рукопожатие состоялось. Но стена, пусть и давшая трещину, не рухнула. Ибо каждый из них остался наедине со своим главным мучителем, который не отпускал ни днем, ни ночью. С собственной виной. Она была разной, имела свой вкус, свой цвет и свой голос, и каждый вел с ней свой безмолвный, изнуряющий диалог.
Яромир: Вина ответственности.
Для Яромира вина была тяжелым, холодным камнем, лежащим на сердце. Она не кричала, не обвиняла. Она просто была. Она проявлялась в мелочах. Он просыпался среди ночи от кошмара, в котором он снова и снова кричит Гостомыслу "в стороны!", но звук застревает в горле. Он садился, проводил рукой по лицу и долго смотрел на пустующую лежанку.
Его диалог с виной был молчаливым спором с самим собой.
"Ты – вожак", – говорил внутренний голос, холодный и беспощадный, как голос Сидора. – "Пусть и самозваный. Они доверились тебе. А ты поддался. Ты позволил гордыне одного и страху другого затмить твой собственный разум. Ты знал, что это безумие. Знал. Но промолчал. Уступил. Чтобы сохранить хрупкий мир в стае".
"Но что я мог?" – мысленно возражал он, переворачивая над огнем куски вяленого мяса. – "Силой его удержать? Устроить драку? Это бы раскололо нас еще до охоты".
"Ты мог быть тверже. Ты мог приказать. Они бы послушались. Даже Ратибор. Но ты испугался ответственности. Испугался взять на себя бремя ненависти Ратибора. Ты выбрал легкий путь. Путь компромисса. И ценой этого компромисса стала жизнь Гостомыла. Его кровь – на твоих руках. Не на рогах лося, не на топоре Ратибора. На твоих руках, "вожак"".
И он смотрел на свои ладони, большие, сильные, способные держать копье и строить дом, и они казались ему чужими, измазанными в чем-то несмываемом. Его вина была виной лидера, не сумевшего защитить. Виной отца, потерявшего сына. И она превращала каждый съеденный кусок мяса, каждый глоток воды в горькое лекарство, которое не лечило, а лишь напоминало о болезни.
Велеслав: Вина знания.
У Велеслава вина была тихой, как шелест змеи в траве. Она не давила, а отравляла. Он, который умел говорить с лесом, который читал знаки, который знал, что ворон не лжет, – он не смог предотвратить беду. Его вина была виной пророка, которому не поверили.
Его диалог был обращен к лесу.
"Я слышал тебя", – шептал он, вглядываясь в узоры мха на дереве. – "Я видел. Я чувствовал твой гнев, твое предупреждение. Я сказал им. Но мои слова были лишь ветром. Я не нашел нужных слов. Не смог достучаться".
"А ты пытался?" – отвечал ему шелест листвы. – "Или ты, в своей мудрости, решил, что глупцов учить бесполезно? Что они должны пройти свой урок сами?"
"Я не хотел конфликта, – оправдывался он, перетирая в пальцах горькую полынь. – Ратибор… он бы не послушал. Он бы лишь посмеялся".
"Но Яромир? Гостомылс? Ты мог бы сказать им. Показать им. Не намекнуть, а закричать. Ты мог бы встать в дверях и не выпустить их. Но ты смирился. Ты принял их глупость как неизбежность. Потому что тебе легче быть отстраненным мудрецом, чем ввязываться в грязную человеческую ссору. Твое знание оказалось бессильным, потому что ты не подкрепил его действием. Ты был врачом, который поставил верный диагноз, но не дал лекарства, потому что больной отказался его пить".
И Велеслав чувствовал себя предателем. Он предал не только друзей. Он предал свой дар. Свое знание. Свой лес, который доверил ему свои тайны, а он не сумел использовать их для защиты своей маленькой, глупой человеческой стаи.
Ратибор: Вина действия.
Вина Ратибора была самой страшной. Она была яростной, кричащей, уродливой. Она была раскаленным железом, которое он сам прижимал к своей душе. Днем он пытался задавить ее работой, доводя себя до полного изнеможения. А ночью она приходила к нему в кошмарах. Он видел не лося, не кровь. Он видел глаза Гостомысла. Те самые, полные детского восторга, когда тот рассказывал о своей мечте вернуться героем. И Ратибор понимал, что это он, своими насмешками, своими упреками в трусости, своей жаждой самоутверждения, взрастил в душе этого простого парня то роковое семя тщеславия, которое и привело его к смерти.
Его диалог был бесконечным самобичеванием.
"Трус! Ты всегда был трусом!" – орал он на себя, сидя в темноте, когда другие, как ему казалось, спали. – "Ты прятался за кулаками и громким голосом! Ты его унижал, потому что завидовал! Завидовал его простоте, его доброте, тому, что его любили! Тебя же всегда только боялись!"
"Я хотел как лучше", – шептал он в ответ, вжимаясь в холодную стену. – "Я хотел добычи. Для всех. Чтобы мы выжили".
"Врешь! – выл внутренний палач. – Ты хотел доказать. Доказать Яромиру, что ты лучше. Доказать Велеславу, что ты сильнее его шепота. Ты поставил свою гордыню на кон. А заплатил за это не своей шкурой, а его жизнью! Он умер вместо тебя! Тот удар предназначался тебе, за твою наглость! А он… он просто попался на пути! Он погиб из-за тебя. Ты его убийца. Не лось. Ты!"
Эта мысль была настолько чудовищной, что он задыхался. Он вспоминал, как плакал у костра. И ему было стыдно. Не за слезы. А за то, что они так быстро высохли. Он хотел бы выть, рвать на себе волосы, биться головой о стену. Но не мог. Он был парализован своей виной. Она не просто мучила его, она его съедала. И если вина Яромира была камнем, а вина Велеслава – ядом, то вина Ратибора была раковой опухолью, которая росла, пожирая его изнутри, не оставляя ничего, кроме пустой, выжженной оболочки.
Так они и жили. Три человека в одной избе. Три узника в трех разных, невидимых камерах пыток, построенных ими же самими. И никто из них не знал, как найти выход. И есть ли он вообще. Лес дал им пищу для тела. Но он отнял у них пищу для души – покой. И это было самое страшное испытание из всех. Не борьба с голодом, холодом или зверями. А борьба с тенями прошлого. С самими собой.
Глава 3
0
. Новый быт
Прошла неделя после смерти Гостомысла. А может, две. Время потеряло свой счет, оно больше не делилось на дни, а измерялось в выпадах на охоту, в количестве заготовленного мяса, в поленьях, уложенных в поленницу. Скорбь не ушла. Она просто вросла в них, стала частью их плоти и крови, как холод, пропитавший стены избы. Острый приступ горя сменился тупой, ноющей болью, которая то затихала, то вспыхивала с новой силой от случайного слова или тени, похожей на знакомый силуэт.
Но жизнь, в своей безжалостной простоте, требовала своего. Нужно было есть, чтобы не ослабеть. Нужно было поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть. Нужно было выживать. И эта суровая необходимость породила новый быт. Безмолвный, строгий, похожий на уклад в мужском монастыре отшельников, познавших страшную тайну.
Разговоры почти прекратились. Они общались короткими, рублеными фразами, жестами, взглядами. "Воды". "Дрова". "Ветер сменился". "След свежий". В этих словах не было эмоций, только информация. Они научились понимать друг друга без лишних объяснений, как старые, усталые волки, которые знают повадки каждого в стае. Лишние слова умерли вместе с Гостомыслом. Он был тем клеем, той добродушной простотой, которая позволяла им спорить, смеяться, мечтать. Теперь смеяться было не над чем. А мечтать – страшно.
У каждого из них появилась своя роль, своя зона ответственности, выкованная в огне трагедии.
Яромир стал абсолютным, непререкаемым лидером. Но его лидерство было лишено власти. Это была чистая, тяжелая, как камень, ответственность. Он планировал вылазки. Он решал, куда идти, сколько мяса брать с собой, когда возвращаться. Он распределял работу в избе. Он делал это не потому, что ему нравилось командовать. А потому, что кто-то должен был это делать. Кто-то должен был думать за них троих, пока их души были парализованы горем. И он взял эту ношу на себя.









