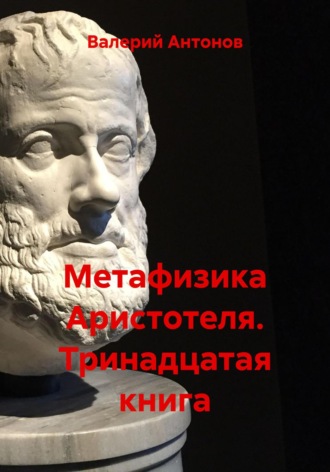
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет подчёркивает, что этот аргумент основан на аристотелевском понимании сущности как того, что делает вещь этой самой вещью. Сущность не может быть отделена от вещи, не уничтожив тем самым саму вещь. Таким образом, Идеи, если бы они и существовали, были бы сущностями самих себя, а не чувственных вещей, и потому были бы бесполезны для объяснения последних. (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 55).
6. Эмпирическое опровержение: Идеи не объясняют возникновение.
В «Фаэдо» говорится, что Идеи являются причинами бытия и становления: но, несмотря на то, что Идеи существуют, отдельные вещи, которые в них участвуют, не возникают, если не добавляется движущая причина, и, наоборот, многие вещи возникают, например, дом, кольцо, для которых платоники не предполагают никаких Идей [10].
Проблема: Практическое опровержение на примерах.
Для возникновения вещи недостаточно одной лишь Идеи (формальной причины), нужна действующая причина (то, что создаёт).
Множество вещей (артефакты) возникают и без предполагаемых для них Идей, что доказывает: реальные причины возникновения – другие (искусство, природа), а не Идеи.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров называет этот аргумент «эмпирическим coup de grâce». Аристотель апеллирует к фактам: дома строят архитекторы и плотники, а не «Идея Дома»; кольца куют ювелиры. Теория Идей не только логически порочна, но и эмпирически нерелевантна – она не соответствует тому, как в действительности происходит процесс возникновения и творения. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 44).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир обращает внимание на вторую часть аргумента: платоники произвольно ограничивают сферу Идей, отрицая их для артефактов. Но это произвольное ограничение доказывает, что в реальном объяснении мы обходимся без Идей. Если для объяснения возникновения дома нам не нужна Идея Дома, то, возможно, для объяснения возникновения человека нам не нужна и Идея Человека? Это подрывает универсальность теории. (Lear J. Aristotle and Logical Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – P. 110).
7. Итоговый вердикт.
Таким образом, а также при еще [11] более четких и точных исследованиях можно привести множество причин, подобных приведенным, против идей.
Проблема: Заключительный вывод. Теория Идей не выдерживает критики ни с логической, ни с онтологической, ни с практической точек зрения. Она бесполезна для объяснения мира.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев резюмирует: критика Аристотеля носит тотальный характер. Он показал, что теория Идей:
Логически противоречива (апории «третьего человека», регресса).
Онтологически несостоятельна (отделённая сущность невозможна).
Гносеологически бесплодна (не помогает познанию).
Каузально бесполезна (не объясняет движение и возникновение).
«После такой разрушительной критики платонизм как строгая философская система был для Аристотеля окончательно преодолён». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 98).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс заключает, что цель этой главы – не просто опровергнуть платонизм, но и расчистить ground для положительного аристотелевского учения о форме и сущности, которое будет изложено в других книгах (особенно VII и XII). Критика показывает, что истинная причина и сущность вещи должна быть имманентной, а не трансцендентной. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 443).
Глава 6. Систематизация и классификация теорий о природе числа.
1. Исходная дилемма: возможные способы существования числа как отдельной сущности.
[1] …Если число есть некое бытие и если [2] его сущность не есть нечто иное, а только это, как утверждают некоторые, то возможны три случая…
Проблема: Формализация основных логических возможностей для теории числа, претендующей на онтологический статус. Аристотель задаёт систему координат для последующего анализа, выделяя три ключевых аспекта:
Внутренняя структура числа: Как соотносятся единицы внутри числа?
Отношение числа к вещам: Отделимо ли число от вещей или имманентно им?
Виды чисел: Сколько существует видов чисел?
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко подчёркивает, что Аристотель здесь действует как систематизатор и логик. Он не просто перечисляет мнения, а выстраивает строгую классификацию всех возможных вариантов онтологизации числа, чтобы затем последовательно их опровергнуть. «Аристотель показывает, что, какую бы позицию ни занял платоник или пифагореец, он неизбежно столкнётся с непреодолимыми трудностями. Эта классификация – своего рода "ловушка" для всех вариантов математического метафизического реализма». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 203).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает, что Аристотель начинает с гипотетического допущения («если число есть некое бытие»), которое сам он не разделяет. Это классический диалектический приём: принять тезис оппонента и показать, что даже в его рамках невозможно построить непротиворечивую теорию. Вся классификация строится на предпосылке, что число – это отдельная сущность, что и будет главным объектом критики. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 444).
2. Классификация по внутренней структуре: природа единиц и их счётности.
[2] …либо в нем есть первое, второе и т. д, каждая из которых конкретно отличается от другой… либо все они образуют последовательность с самого начала, и каждая из них сочтена вместе с каждой… Или же единицы иногда считаются вместе, иногда [4] нет…
Проблема: Анализ того, как теоретики числа понимают состав числа. Аристотель выделяет три позиции:
Несчётные единицы (Платон): Каждая единица в числе уникальна и несравнима с другими (единица в "двойке" иная, чем в "тройке").
Счётные/Однородные единицы (Математики): Все единицы тождественны и взаимозаменяемы (2 = 1+1, 3 = 2+1).
Смешанная модель: Единицы сравнимы внутри одного числа, но не сравнимы между разными числами.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь критику платоновского учения об «идеальных числах», которые состоят из не-сравнимых, гетерогенных единиц. «Аристотель справедливо указывает на абсурдность такого представления: если единицы внутри числа различны и несравнимы, то само понятие числа как множества однородных единиц разрушается. Платон, желая онтологизировать число, лишает его главного свойства – счётности». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 99).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на то, что Аристотель противопоставляет «философское» (платоновское) и «математическое» понимание числа. Математика работает только с однородными, взаимозаменяемыми единицами. Платоновская же теория, создавая онтологию для числа, делает его непригодным для математических операций. Таким образом, платонизм не только метафизически порочен, но и практически бесполезен для науки. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ4).
3. Классификация по отношению к чувственному миру: отделимость vs. имманентность.
[9] Далее, числа могут быть либо отделимы от вещей, либо не отделимы, но имманентны разумным вещам… или, наконец, числа могут быть частично отделимы, частично не отделимы…
Проблема: Определение онтологического статуса числа по отношению к реальности. Аристотель намечает спектр мнений:
Полная отделимость (Платон: идеальные и математические числа отделены от вещей).
Полная имманентность (Пифагорейцы: вещи состоят из чисел, числа не отделены).
Промежуточные варианты.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель чётко разделяет два основных лагеря: платоников (трансценденталисты) и пифагорейцев (имманентисты). Это разделение fundamental для понимания всей последующей критики, так как аргументы против каждой из позиций будут различны. Против первых будет работать аргумент от отделённости и бесполезности, против вторых – аргумент от невозможности составления физических тел из неделимых единиц. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 334).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс подчёркивает, что Аристотель намеренно включает и «промежуточные» варианты, чтобы показать, что любая попытка совместить отделимость и имманентность ведёт к эклектике и непоследовательности. Его собственная позиция, как будет ясно далее, заключается в том, что число не является ни отдельной сущностью, ни составной частью вещей, а есть атрибут, мысленно абстрагируемый от количественной стороны сущего. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 425).
4. Сводная классификация существующих философских школ.
[12] Одни утверждают, что существуют оба вида чисел… другие, напротив, утверждают, что только математическое число является первым… [13] Пифагорейцы, кроме того, знают только одно число, математическое, но они не допускают, чтобы оно было отдельным… Другой говорит, что существует только одно, идеальное число; другие также допускают, что математическое число совпадает с ним.
Проблема: Соотнесение логически возможных моделей с реальными историко-философскими школами. Аристотель распределяет позиции:
Платоники (Спевсипп?): Признают два отделённых вида числа – идеальное (с несчётными единицами) и математическое (со счётными).
(Некоторые платоники, Ксенократ?): Признают только математическое число как первое и отделённое.
Пифагорейцы: Признают одно имманентное число (вещи состоят из чисел, которым приписаны spatial величины).
(Платон?): Признает только идеальное число.
(Другие): Отождествляют идеальное и математическое число.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль обращает внимание на то, что Аристотель не просто классифицирует, но и показывает внутреннюю раздробленность и противоречивость лагеря его оппонентов. «Платоники не смогли выработать единой позиции по ключевому для них вопросу о числе. Это свидетельствует о глубине проблем, присущих самой теории». Аристотель использует это как дополнительный аргумент: если даже сами основатели и последователи теории не могут договориться о её содержании, значит, она внутренне несостоятельна. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 62).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет отмечает, что эта классификация – бесценный исторический источник, показывающий расхождения внутри Древней Академии после смерти Платона (между Спевсиппом, Ксенократом и другими). Аристотель, бывший членом Академии, был прекрасно осведомлён об этих дискуссиях. Его критика направлена не на абстрактного противника, а на вполне конкретные и влиятельные философские течения его времени. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 31).
5. Распространение классификации на другие математические объекты.
Аналогичные различия обнаруживаются [15] в отношении длин, площадей и твердых тел.
Проблема: Показ универсальности проблемы. Те же самые дилеммы (отделимость/имманентность, виды) возникают не только для чисел, но и для геометрических объектов (линий, поверхностей, тел).
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров указывает, что этим замечанием Аристотель подводит итог своей критики математического платонизма в целом. Все аргументы, приведённые против отдельного существования математических объектов в главах 2-3, теперь распространяются и на пифагорейско-платоновские теории числа. Проблема одна и та же: гипостазирование абстракций. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 45).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир видит здесь доказательство системности аристотелевского подхода. Его философия математики едина: будь то арифметика или геометрия, её объекты имеют один и тот же онтологический статус – статус абстракций. Поэтому все попытки приписать им самостоятельное существование, в какой бы форме они ни выражались, будут страдать одними и теми же родовыми пороками. (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2, 1982. – P. 180).
6. Предварительный вердикт.
[17] Из сказанного следует, что взгляды на числа могут быть многообразны, и все мыслимые способы перечислены; но все они недопустимы, хотя, вероятно, один больше другого.
Проблема: Формулировка итога классификации. Аристотель заявляет, что, несмотря на всё многообразие, все перечисленные теории числа как отдельной или составляющей сущности являются в конечном счёте несостоятельными. Однако их критика требует отдельного разбора, которому и посвящены последующие главы.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова подчёркивает итоговый характер этого заявления. Аристотель завершил систематизацию и вынес предварительный приговор. Фраза «все они недопустимы» (ἀδύνατοι) – это не просто оценка, а логический вывод: каждая из возможностей ведёт к противоречиям. Последующие главы (7-9) будут посвящены детальному обоснованию этого вердикта для каждой из классифицированных позиций. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн интерпретирует последнюю оговорку («хотя, вероятно, один больше другого») как указание на то, что некоторые теории (например, пифагорейская) ближе к истине, так как хотя бы пытаются связать число с чувственным миром, тогда как крайний платонизм с его отделёнными идеальными числами полностью отрывается от реальности. Однако и та, и другая в конечном счёте ошибочны, так как исходят из ложной предпосылки о том, что число есть сущность. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 152).
Глава 7. Логические апории теории чисел: критика несчётных единиц.
1. Исходная дилемма: счётны или несчётны единицы в числе?
[1] Теперь мы должны сначала выяснить, являются ли единицы вместе счетными или несчетными, и, если последнее, то каким [2] из вышеперечисленных способов они являются таковыми.
Проблема: Постановка центральной проблемы главы. Аристотель начинает детальную критику, фокусируясь на первом и ключевом вопросе своей классификации: природа единиц, составляющих число. Это основа для опровержения платонической теории.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко подчёркивает, что Аристотель выбирает самый уязвимый платонической доктрины – учение о несравнимых единицах. «Аристотель бьёт в самое сердце платоновской метафизики числа, показывая, что её исходное допущение – гетерогенность единиц – логически несостоятельно и делает невозможной не только математику, но и само понятие числа». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 205).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает стратегический ход Аристотеля: он начинает с дилеммы, которая заведомо ставит платоника в проигрышное положение. Если единицы сравнимы, то рушится уникальность Идей-чисел; если несравнимы, то рушится сама математика. Таким образом, теория проигрывает в любом случае. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 448).
2. Опровержение первой возможности: если все единицы счётны (однородны).
[3] Если все единицы вместе и одного рода, то мы получаем математическое число как единственное, и тогда идеи не могут быть числами.
Проблема: Критика модели математического числа. Если все единицы тождественны и взаимозаменяемы (2 = 1+1), то:
Потеря уникальности Идей: Каждая Идея должна быть уникальным числом. Но если все тройки тождественны, то нельзя сказать, какая из них является Идеей Человека, а какая – Идеей Животного.
Идеи не могут быть числами: Это делает невозможным отождествление Идей с числами, что разрушает основу платонизма.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь доказательство того, что платонизм несовместим с математикой. «Платон хочет, чтобы число было одновременно и математическим объектом, и метафизической сущностью. Аристотель показывает, что это невозможно: требования к ним прямо противоположны. Математика требует однородности, метафизика Идей – уникальности». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 101).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн акцентирует, что этот аргумент направлен против тех платоников (возможно, Ксенократа), кто пытался сохранить математическое число в ущерб идеальному. Аристотель показывает, что это – тупиковый путь, так как он автоматически отменяет теорию Идей, ради которой всё и затевалось. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ5).
3. Опровержение второй возможности: если все единицы несчётны (гетерогенны).
[7] Но если единицы несовместимы, причем так, что каждая несовместима с каждой, то это число не может быть ни математическим числом… ни идеальным числом…
Проблема: Критика модели, где каждая единица уникальна и несравнима. Это приводит к абсурдным следствиям:
Нарушение математики: Математические операции (сложение) становятся невозможными, так как нельзя прибавить «эту» единицу к «той».
Нарушение платонической генерации чисел: Платоновская «неопределённая двоица» не может порождать числа, если каждая единица уникальна и не может быть просто «прибавлена».
Регресс в порядке: Единицы оказываются «более ранними» и «более поздними», чем числа, которые они составляют, что логически невозможно (например, в двойке должна быть «третья» единица, прежде чем возникнет тройка).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель атакует саму возможность арифметики в мире платоновских чисел. «Если единицы несравнимы, то 2 + 1 ≠ 3, так как единицы в "двойке" иные, чем в "единице". Сложение превращается в невыполнимую операцию. Таким образом, платоновское число не может быть предметом науки арифметики, что абсурдно». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 336).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс обращает внимание на критику порождения чисел. Платоновская «неопределённая двоица» (ἡ ἀόριστος δυάς) должна была быть принципом множественности. Но если каждая единица уникальна, то двоица не может быть неопределённой, она должна порождать строго определённые, уникальные единицы, что противоречит её сути как принципа неопределённости. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 427).
4. Апория «двойки-в-себе» и состава чисел.
[19] …не может быть ни двух-сущности в себе, [19] ни трех-сущности в себе и так далее… число обязательно должно исчисляться путем сложения… В них, с другой стороны, четыре-сущности была создана из первичной дву-сущности и неопределенной дву-сущности, и, таким образом, две дву-сущности получаются помимо дву-сущности-в-себе…
Проблема: Внутреннее противоречие в платоническом построении чисел. Аристотель показывает, что если строить числа из «неопределённой двоицы», то получается, что, например, число 4 состоит из двух двоек. Но тогда возникает вопрос: тождественна ли одна из этих двоек «Идее Двойки» или нет? Если да, то Идея становится частью другой вещи. Если нет, то существует множество двоек, что отрицает уникальность Идеи.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль называет эту апорию «взрывом изнутри» платонической системы. «Теория требует, чтобы Идея-Число была уникальной и простой. Но механизм её порождения (сложение из двоицы) требует, чтобы она была составной и множественной. Это неразрешимое противоречие в самом основании». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 64).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









