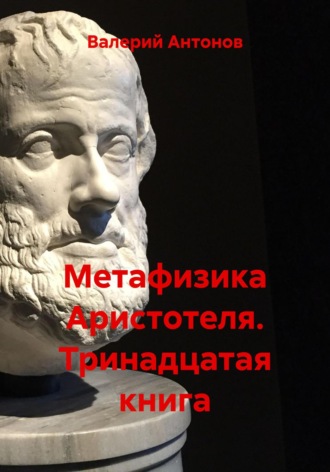
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет указывает на связь этого пассажа с учением о четырёх причинах. Точность математики проистекает из того, что она изучает почти исключительно формальную причину, абстрагируясь от материальной, движущей и целевой. Это сужение фокуса и даёт силу её доказательствам. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 29).
5. Метод математики: рассмотрение не-отдельного как отдельного.
[11] …Лучший способ взглянуть на любую вещь – это рассматривать то, что не является отдельным, как отдельное [12], как это делают арифметик и геометр.
Проблема: Описание метода математического познания. Хотя математические объекты не существуют отдельно, математик в своём исследовании рассматривает их так, как если бы они были отдельными сущностями. Это методологический приём, позволяющий изучать свойства фигур и чисел в чистом виде, не отвлекаясь на материальные наслоения.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев называет этот метод «гипостатизацией абстракций в порядке методологического приёма». Это не онтологическое утверждение, а рабочая гипотеза математика. «Математик… временно и условно приписывает самостоятельное существование тому, что в действительности самостоятельно не существует. Это – фикция, но фикция плодотворная, необходимая для построения математической науки». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 90).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на выражение «лучший способ» (βέλτιστον). Это не просто допустимый приём, а оптимальная методологическая стратегия. Она позволяет математике достигать необходимых и всеобщих истин о количественных и пространственных отношениях, которые хотя и имплицитно присутствуют в чувственных вещах, но могут быть явлены только таким образом. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 428).
6. Математика и прекрасное: косвенное выражение блага через порядок и симметрию.
[14] …Поскольку благое и прекрасное различны… то ошибаются те, кто утверждает, что математические науки ничего не говорят о прекрасном или благом. Они во всех отношениях говорят [16] о нем и указывают на него, даже если не употребляют этого слова, а только доказывают его произведения и отношения. [17] Главными видами красоты являются порядок, симметрия и определенность, и именно на них предпочитают указывать математические науки.
Проблема: Ответ на возможное обвинение математики в отрыве от ценного и meaningful. Аристотель утверждает, что математика, хотя и не говорит прямо о благе (которое связано с действием), говорит о прекрасном, которое проявляется в неподвижности. А главные формы прекрасного – порядок, симметрия, соразмерность (taxis, summetria, to horismenon) – как раз и являются прямым предметом математики. Таким образом, математика изучает formal cause красоты.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит здесь важное расширение горизонта математики. Аристотель защищает её не только как точную, но и как meaningful науку, связанную с высшими ценностями. «Указывая, что математика изучает порядок, симметрию и определённость, Аристотель подчёркивает её эстетическую и космологическую значимость. Математическая структура лежит в основе гармонии космоса, и в этом смысле математика оказывается связанной с теологией, изучающей наивысшие причины миропорядка». (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн интерпретирует этот пассаж как ответ тем, кто, подобно Исократу, обвинял математику в бесполезности. Аристотель показывает, что математика имеет высшую ценность – она открывает formal conditions красоты и, следовательно, вносит вклад в понимание устройства наилучшего космоса. «Математика не говорит о благе прямо, как этика, но она демонстрирует его структурные предпосылки – те самые порядок и меру, которые являются основой всякого блага в мире». (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 145).
Глава 4. Критический анализ теории Идей: генезис учения и его внутренние противоречия.
1. Историко-философские истоки теории Идей.
[2] …Сторонники учения об идеях пришли к своему мнению благодаря убеждению в правильности гераклитовского учения о том, что все чувственное находится в вечном движении: если, заключали они далее, должна существовать наука и познание чего-либо, то наряду с чувственно воспринимаемым и помимо него должны существовать другие, постоянные существа, ибо науки о движении не существует.
Проблема: Выявление гносеологического корня теории. Аристотель показывает, что Платон и его последователи, приняв тезис Гераклита о тотальной изменчивости чувственного мира, пришли к выводу о необходимости существования неизменных сущностей (Идей) как единственно возможного объекта истинного знания (науки).
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что Аристотель даёт глубокий историко-философский анализ, вскрывая действительную генетическую связь платонизма с гераклитизмом. Однако Аристотель не согласен с исходной посылкой. «Аристотель… сам признает изменчивость чувственного мира, но он не абсолютизирует её, как это делали киренаики или Кратил. Для Аристотеля в самом чувственном мире есть определённость и устойчивость, позволяющие иметь о нём науку, – а именно, его форма». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 92).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает, что Аристотель здесь указывает на фундаментальное различие между своей и платоновской эпистемологией. Для Платона наука (epistêmê) возможна только о неизменном. Для Аристотеля наука возможна и о изменчивом, если рассматривать его под определённым, устойчивым аспектом (через его форму и сущность). Таким образом, теория Идей, по Аристотелю, рождена из ложной дилеммы. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 431-432).
2. Роль Сократа и смещение акцента с натурфилософии на определения.
Теперь, занимаясь нравственными добродетелями [4] и, прежде всего, пытаясь сделать общие выводы о них… Сократ справедливо искал, что именно. Ведь он пытался сформировать рассуждение, [7] а принцип рассуждения – это то, что… Сократу по праву можно приписать две вещи: индукцию и определение, и обе они относятся к [9] принципу научности.
Проблема: Определение роли Сократа как предтечи. Аристотель отделяет заслугу Сократа (разработка индуктивного метода и поиск универсальных определений, особенно в этике) от ошибки платоников. Сократ искал общие понятия (logoi), но не приписывал им отдельного онтологического статуса.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом пассаже тонкую историко-философскую критику. Аристотель отдаёт должное Сократу как основателю логики и методологии, но чётко отделяет его от Платона. «Сократ, по Аристотелю, открыл общее как предмет логического определения, но не онтологизировал его. Платон же, столкнувшись с проблемой обоснования неизменности общего, придал ему статус самостоятельного сверхчувственного бытия, что, с точки зрения Аристотеля, и было роковой ошибкой». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 199).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн соглашается с этой оценкой, отмечая, что Аристотель ценит Сократа за его focus на логических и этических универсалиях, что было шагом вперёд по сравнению с натурфилософией досократиков. Однако платоновская онтологизация этого общего представляется Аристотелю неоправданным и ошибочным метафизическим скачком. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 148).
3. Ошибка платоников: гипостазирование общих понятий.
Но Сократ не превращал общее и определения в конкретные сущности, тогда как платоники [10] делали это и называли такого рода сущности Идеями.
Проблема: Формулировка основной ошибки платонизма. Платоники, в отличие от Сократа, совершили логическую ошибку, превратив универсальные понятия (общее) в самостоятельные, отдельно существующие сущности (hypostasizing).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай определяет эту ошибку как «нарушение категориального строя мышления». Платоники смешали логический статус предиката (то, что говорится о subject) с онтологическим статусом субъекта (самой сущности). «Они приняли predicables за substances, универсалии за первичные сущности. Это, по Аристотелю, фундаментальная категориальная ошибка, ведущая ко всем последующим апориям теории Идей». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 330).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс называет этот процесс «reification» (опредмечивание). Платоники, стремясь объяснить, почему многие вещи подпадают под одно понятие, постулировали отдельно существующий прообраз этого понятия. Аристотель же предлагает иное объяснение: общность основана на том, что одна и та же форма присутствует в разных материях. Таким образом, нет нужды выходить за пределы чувственного мира для объяснения универсалий. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 420).
4. Следствие ошибки: неконтролируемое умножение сущностей.
Поэтому, следовательно, им пришлось принять идеи почти за все общее… ведь идей почти больше, чем отдельных чувственных вещей… Ибо для каждой вещи существует одноименная Идея… согласно доводам, вытекающим из природы науки, были бы идеи для всего, о чем имеет место наука; согласно доказательству, вытекающему из единства во многих, были бы идеи и для отрицательного…
Проблема: Демонстрация абсурдного следствия из предпосылок платоников. Если логика платоников верна, то Идей должно быть бесконечное множество, включая идеи отрицательных понятий, относительных свойств и преходящих вещей, что сами платоники признать отказываются. Это приводит к противоречию внутри их же системы.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль обращает внимание на то, что этот аргумент является развитием аргумента от пролиферации (размножения сущностей), применённого ранее к математическим объектам. Аристотель показывает, что платонизм не может быть последовательно проведённой системой. Его собственные принципы требуют существования Идей для всего, что мыслимо, включая несуществующее и отрицательное (например, «Идея Не-Сущего»), что абсурдно. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 58).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн подчёркивает, что это не просто внешняя критика, а демонстрация внутренней противоречивости платонизма. Платоники вынуждены произвольно ограничивать сферу идей, чтобы избежать абсурда, но тем самым они нарушают свои же собственные гносеологические принципы (например, что наука возможна только об идеях). Это показывает, что теория не выдерживает проверки на логическую последовательность. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ1).
5. Логические несоответствия в теории причастности.
Но по необходимости и [18] согласно господствующим взглядам на идеи, если идеи способны к участию, то должны существовать идеи только отдельных субстанций… Идеи, таким образом, являются единичными субстанциями.
Проблема: Критика теории причастности (methexis). Аристотель показывает, что если вещь причастна Идее, то это имеет смысл только для субстанций (сущностей), а не для свойств или отношений. Но это ведёт к другому противоречию: Идеи, будучи общими по definition, оказываются единичными сущностями, что невозможно.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит здесь апелляцию к аристотелевскому учению о категориях. Идея, по замыслу, должна быть сущностью (ousia). Но сущность по definition есть «вот это нечто» (tode ti), единичное. Однако платоновская Идея по definition есть общее (katholou). Таким образом, в понятии «Идеи» совмещаются взаимоисключающие характеристики: быть общей и быть единичной сущностью. Это логический тупик. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет интерпретирует этот аргумент как показывающий, что теория причастности не может объяснить, как именно единичная вещь связана с общей Идеей. Либо Идея должна быть единичной (тогда она не может быть обшей для многих), либо обшей (тогда она не может быть сущностью). Платонизм оказывается зажатым между Сциллой номинализма и Харибдой универсального реализма, не будучи able to найти между ними стабильную позицию. (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 52).
6. Главная апория: проблема общности Идей и вещей.
Если идеи и то, что в них участвует, одного [21] рода, то между ними должно быть что-то общее… Если же они не одного и [22] того же рода, то они просто омонимы…
Проблема: Формулировка знаменитого «Третьего человека». Аристотель указывает на центральную логическую трудность теории: если вещь и её Идея сходны, то должно существовать нечто общее между ними, то есть новая, более высокая Идея, и так до бесконечности. Если же они не сходны, то Идея не может быть сущностью вещи, а лишь её омонимом (как если бы и человека, и его statue назвать «человеком»).
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров отмечает, что этот аргумент, известный ещё из диалога «Парменид», является самым сильным логическим возражением против теории Идей. Он показывает, что платонизм не может объяснить самое главное – отношение подобия между идеей и вещью – без того, чтобы не впасть в бесконечный регресс (третий человек, четвёртый и т.д.) или не разорвать всякую связь между мирами. «Аристотель демонстрирует, что теория Идей либо бесплодна (регресс), либо бессмысленна (омонимия)». (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 41).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир подчёркивает, что апория «третьего человека» разрушает саму возможность объяснения через Идеи. Если для объяснения подобия между человеком и Идеей Человека требуется новая Идея, то объяснение никогда не будет завершено. Таким образом, Идеи не выполняют своей основной функции – быть причиной сходства и бытия вещей. Они оказываются бесполезными сущностями. (Lear J. Aristotle and Logical Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – P. 107).
7. Пустота определения Идей через родо-видовые понятия.
Если же мы предположим, [23] что общие понятия в остальном применимы к идеям, например, общие понятия фигуры, поверхности и других частей этого понятия… то мы должны увидеть, не является ли эта информация совершенно пустой.
Проблема: Критика попытки определить сами Идеи. Аристотель argues, что если пытаться определить Идею (например, «Идея Человека») через общие родовые и видовые понятия («животное», «двуногое»), то это либо ведёт к регрессу (нужны Идеи для этих родов и видов), либо определение оказывается пустым, так как не объясняет, чем именно эта Идея отличается от других. Идея оказывается просто синонимом общего понятия, лишённым explanatory power.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев резюмирует: Аристотель показывает, что Идеи оказываются «вечными дубликатами» чувственных вещей, не несущими никакой новой информации. Их определения совпадают с определениями соответствующих чувственных сущностей, что делает их онтологически избыточными. «Зачем нужны эти копии, которые ничего не объясняют и только удваивают мир? – спрашивает Аристотель. Его собственная теория формы, имманентной вещи, экономичнее и объяснительно мощнее». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 95).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс соглашается с этой оценкой. Определение Идеи Человека будет таким же, как определение человека вообще. Но тогда Идея не добавляет ничего к нашему пониманию человека, кроме утверждения, что существует некий сверхчувственный образец, что является голым утверждением, не несущим объяснительной силы. Таким образом, теория Идей оказывается метафизически бесплодной. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 437-438).
Глава 5. Бесполезность идей: критика их каузальной и объяснительной роли.
1. Основной обвинительный тезис: Идеи не выполняют никакой объяснительной функции
[1] Больше всего, однако, возникает вопрос, что, собственно, делают Идеи для вечного при материально существующем, или какую пользу они приносят возникающему и преходящему: ведь они [2] не являются причиной ни движения, ни какого-либо другого изменения. Не вносят они ничего и в научное познание вещей… ни в их бытие, поскольку они не пребывают в том, что участвует в них.
Проблема: Постановка главного обвинения. Аристотель утверждает, что Идеи, даже если предположить их существование, бесполезны. Они не объясняют:
Движение/Изменение (не являются действующей причиной).
Познание (поскольку не присутствуют в познаваемых вещах).
Бытие вещей (поскольку отделены от них).
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что здесь Аристотель переходит от логической критики к функциональной. Даже если бы удалось разрешить все апории, теория Идей всё равно была бы отвергнута, так как не выполняет главной задачи метафизики – объяснения причин бытия и становления. «Идеи оказываются праздными и бездейственными сущностями, "ненужным удвоением мира", которое ничего не объясняет и ничему не служит. Они – "мертвые куклы", не способные быть двигателями мира». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 96).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс акцентирует, что этот аргумент основан на аристотелевской теории четырёх причин. Чтобы быть настоящей причиной, Идея должна быть либо формальной (но она не в вещи), либо движущей (но она неподвижна), либо целевой (но она не притягивает). Таким образом, Идеи не вписываются ни в одну из категорий причинности, что делает их метафизически бесплодными. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 439-440).
2. Критика теории причастности как пустой метафоры.
Самое большее, что можно сказать, – это то, что они являются причинами, подобно тому как белое смешивается с [3] белой массой… Называть идеи образцами и допускать, что вещи в них участвуют, – пустая болтовня в поэтических метафорах.
Проблема: Опровержение конкретных платонических объяснений. Аристотель сравнивает теорию причастности с неудачной теорией Анаксагора о «примешивании» и объявляет её бессодержательной поэтической метафорой, а не философским объяснением.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом сравнении с Анаксагором тонкую иронию. Аристотель низводит возвышенную платоновскую метафору причастности до уровня наивного физикализма досократиков, показывая её философскую несостоятельность. «"Участие" (μέθεξις) и "присутствие" (παρουσία) – это не объяснительные понятия, а лишь образные выражения, за которыми не стоит никакого ясного механизма causation. Аристотель требует чёткого ответа на вопрос: как именно идея вызывает бытие вещи? И платонизм такого ответа дать не может». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 201).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн соглашается, отмечая, что Аристотель обвиняет платоников в использовании «поэтического» языка, который создаёт иллюзию объяснения, но на деле лишь переименовывает проблему. Сказать, что вещь существует потому, что «причастна Идее», – это то же самое, что сказать «она существует потому, что существует её сверхчувственный двойник». Это тавтология, а не объяснение. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 150).
3. Критика модели «образца и подобия».
[5] Ибо кто же творит, имея в виду идеи? Кроме того, вполне возможно, что нечто может быть или становиться похожим на другое, не будучи созданным по его образцу…
Проблема: Доказательство неработоспособности модели. Аристотель указывает на два изъяна:
Отсутствие «демиурга»: В природе нет сознательного творца, который «смотрел» бы на Идеи-образцы.
Логическая избыточность: Сходство между вещами не требует существования отдельного образца (Сократ похож на человека, но не потому, что оба «смотрят» на Идею Человека).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай подчёркивает, что Аристотель атакует антропоморфный характер платоновской модели. Она заимствована из сферы ремесла (мастер смотрит на образец) и некритически перенесена на природу. «Для Аристотеля природа (φύσις) творит не по образцу, а из внутреннего принципа – формы. Сходство между индивидами одного вида объясняется не внешним образцом, а наличием у них одной и той же имманентной формы». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 332).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на второй, ещё более разрушительный аргумент: сходство не требует образца. Два человека похожи друг на друга непосредственно, в силу общей природы, а не потому, что оба копируют некий третий объект. Введение Идеи как посредника в объяснении сходства является избыточным и нарушает принцип «бритвы Оккама» (entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ3).
4. Внутреннее противоречие: регресс в определении самих Идей.
[6] …даже если бы Сократ существовал как идея, все равно существовало бы несколько его архетипов… Более того, идеи – это не просто архетипы разумных, но и сами идеи: ведь между собой идеи опять-таки находятся в отношении [8] рода к виду: так что одна и та же вещь может быть архетипом и образом.
Проблема: Демонстрация абсурда внутри самой теории. Если Идеи сами являются сущностями, то для их определения потребуются更高ие Идеи (например, Идея Живого Существа для Идеи Человека). Это ведёт к бесконечному регрессу или к путанице, где одна и та же Идея одновременно является и образцом, и копией.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль отмечает, что этот аргумент показывает порочный круг в основании платонизма. Теория Идей, призванная объяснить иерархию и подобие в чувственном мире, сама оказывается нуждающейся в таком же объяснении, что ведёт к дурной бесконечности. «Платонизм оказывается саморазрушающейся системой: чтобы обосновать её, нужно выйти за её пределы, но такого выхода она не предусматривает». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 60).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс видит здесь отсылку к проблеме «третьего человека», но применённую уже к самим Идеям. Если Идеи образуют свой собственный мир с родо-видовой структурой, то для объяснения сходства между, скажем, Идеей Человека и Идеей Животного потребуется новая, сверх-Идея, и так до бесконечности. Таким образом, мир Идей оказывается столь же нуждающимся в объяснении, как и мир чувственный. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 423).
5. Онтологический аргумент: невозможность отделённой сущности.
[8] Кроме того, должно казаться невозможным, чтобы сущность была отделена от вещи, чьей сущностью она является. Как же тогда Идеи, если они [9] суть вещи, могут быть отделены от них?
Проблема: Удар по самой основе платонизма. Аристотель утверждает свой ключевой принцип: сущность (ousia) вещи не может существовать отдельно от самой вещи. Платоновские Идеи – это именно что сущности, существующие отдельно, что, по Аристотелю, является логической невозможностью.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова указывает, что это – центральный расхождения двух философов. Для Аристотеля форма (сущность) существует только в Matter, а не отдельно от неё. «Отделённая сущность» – это contradictio in adjecto. Платоновский мир Идей – это, по сути, мир отделённых форм, который для Аристотеля есть нонсенс, философская фикция. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).









