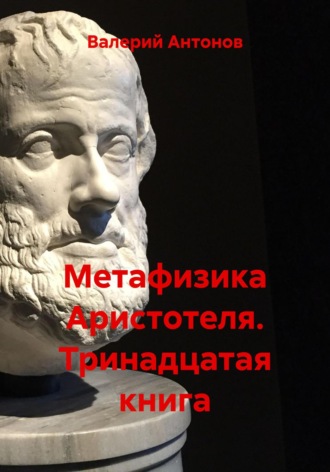
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга
Анализ статуса математических объектов.
Анализ статуса идей (с отсылкой к более ранним, возможно, устным, дискуссиям).
Итоговый вопрос о способности чисел и идей быть первопричинами и субстанциями.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова отмечает, что отсылка к «экзотерическим сочинениям» (возможно, утраченным диалогам Аристотеля или к устным обсуждениям в Ликее) показывает, что критика теории идей была для Аристотеля хорошо разработанной и многократно повторяемой темой. План показывает его систематический подход: сначала разобрать более «простые» математические объекты, а затем перейти к более сложным и спорным – идеям. Финальный вопрос о принципах – это главный вопрос метафизики, ради которого и затевается вся критика. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет подчёркивает стратегическую важность этого плана. Аристотель начинает с математики, потому что её он считает в чём-то более ясной дисциплиной, а её объекты – менее проблематичными, чем идеи. Это позволяет ему разработать основные онтологические аргументы (которые будут изложены в следующем е), которые затем можно будет применить и к идеям. Упоминание «третьего объекта исследования» (вопрос о принципах) указывает на то, что критика – не самоцель, а пролог к позитивному учению, которое последует в книге XII (Λ). (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 15-16).
5. Ключевая дилемма о способе существования математических объектов.
Если математическое существует, то оно должно либо, как утверждают некоторые, существовать в чувственных вещах, либо, как утверждают другие, отдельно от чувственных вещей: если ни того, ни другого нет, то оно либо не существует вовсе, либо существует каким-то иным образом. Таким образом, предметом нашего обсуждения будет не его существование, а природа его существования.
Проблема: Формулировка центральной апории (логического затруднения) для математических объектов. Аристотель сужает поле дискуссии: он не отрицает полезность математики, но ставит под сомнение онтологический статус её объектов – являются ли они самостоятельными сущностями (субстанциями) или же существуют лишь в мышлении.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров видит здесь core аргумент всей аристотелевской философии математики. Аристотель отвергает как платоновский дуализм (отдельное существование математических объектов), так и наивный материализм (их полное тождество с чувственными вещами). Его собственное решение, которое будет развито далее, состоит в том, что математические объекты – это абстракции, мысленно выделяемые из чувственной субстанции и не существующие независимо от неё. Таким образом, они не являются субстанциями в строгом смысле, а существуют «в другом роде» – как атрибуты или модусы субстанции. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 32–43).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир считает, что Аристотель здесь формулирует дилемму, которая до сих пор актуальна в философии математики: платонизм vs. номинализм. Гениальность Аристотеля в том, что он предлагает третий путь – концептуализм. Математические объекты реальны, но их реальность зависит от деятельности ума, абстрагирующего определённые свойства (количество, форма) от физических тел. Поэтому вопрос «как они существуют?» для Аристотеля важнее вопроса «существуют ли они?». Их существование – это существование в мышлении (ens rationis). (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1982). – PP. 161-192).
Глава 2. Опровержение самостоятельного существования математических объектов.
1. Критика теории вложения: математические объекты не могут существовать внутри чувственных вещей.
[1] То, что математическое не может существовать в разумном и что такое утверждение ложно, мы уже отмечали в «Апориях», где показали, что два тела не могут находиться в одном и том же пространстве в одно и то же время. Далее мы отметили, что с тем же правом можно утверждать, что [2] другие способности и природы также находятся в чувствующих вещах и что ни одна из них не является отдельной. В дополнение к этим уже приведенным причинам [3] также невозможно, чтобы тело было делимым в соответствии с этим предположением…
Проблема: Опровержение точки зрения, что математические объекты (точки, линии, поверхности) физически вложены в чувственные тела как их составные части. Аристотель приводит три контраргумента:
Физическая невозможность: Два тела (чувственное и математическое) не могут занимать одно и то же место (апория).
Логическое следствие: Тогда и все другие свойства (цвет, способности) пришлось бы считать отдельными телами внутри вещей.
Апория делимости: Если тело состоит из поверхностей, те – из линий, а линии – из точек (которые неделимы), то деление становится невозможным.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь классический пример аристотелевского эмпиризма и его борьбы с платоновским «гипостазированием» (опредмечиванием) абстракций. Аргумент о невозможности двух тел в одном месте – это удар по самой возможности существования идеального как физически осязаемого. «Аристотель хочет сказать, что математические объекты, если их понимать как телесные сущности, ничем не отличались бы от обыкновенных физических тел и, следовательно, не могли бы быть вечными и неподвижными, ибо все физическое подвижно». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 85).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на отсылку к «Апориям» (вероятно, к более ранним дискуссиям в Ликее). Он подчёркивает силу второго аргумента (редукции к абсурду): если бы математические объекты были телами внутри тел, то тогда и любое свойство, например, «белизна» или «способность нагревать», пришлось бы считать отдельным телом, что ведёт к полной неразберихе и уничтожению самой категории субстанции. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 409-410).
2. Критика теории отделения: недопустимое умножение сущностей (argument from proliferation).
С другой стороны, такие экзистенты [математические] не могут существовать отдельно. Ведь если бы, кроме чувственно воспринимаемых тел, существовали другие тела, отдельные от них и предшествующие им, то, очевидно, кроме поверхностей должны были бы существовать и другие поверхности, отдельные от них, и кроме точек – точки, а кроме линий – линии, [6] по той же самой причине…
Проблема: Опровержение теории, что математические объекты существуют отдельно от чувственного мира. Аристотель показывает, что это приводит к бесконечному регрессу и умножению сущностей. Если есть отдельное математическое тело, то должны быть и отдельные поверхности, его составляющие, а затем отдельные линии, составляющие эти поверхности, и так до бесконечности. Это абсурдно.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко называет этот аргумент «принципом пролиферации (размножения) сущностей», который является одним из самых мощных орудий аристотелевской критики платонизма. Аристотель применяет здесь свой собственный критерий научности: объяснение не должно множить сущности сверх необходимости (бритва Оккама ante litteram). Теория, порождающая бесконечный регресс, не может быть истинной, так как она делает невозможным любое познание. (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 196).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн отмечает, что этот аргумент адресован не только «чистым» платоникам, но и, возможно, Спевсиппу, который пытался построить всю онтологию на математических объектах. Аристотель показывает, что такая онтология внутренне противоречива и обречена на бесконечное удвоение мира. «Аргумент Аристотеля демонстрирует, что платоновское отделение Идей (или математических объектов) разрушает саму возможность иерархии сущего, делая её бесконечной и, следовательно, бессмысленной». (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50 (1965). – P. 142).
3. Следствие для наук: предметом какой математики была бы эта «вторая реальность»?
О чем же из этого должны теперь [11] заботиться математические науки? Конечно, не о поверхностях, линиях и точках неподвижного тела? Ведь наука всегда занимается первым.
Проблема: Практический вывод из теории отделения. Если существует бесконечная иерархия математических объектов, то какой именно из этих бесчисленных «этажей» реальности изучает геометрия? Наука должна иметь дело с первым и главным, а в этой теории непонятно, что является первым.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль подчёркивает, что Аристотель атакует платонизм с позиций практикующего учёного. Математика как наука работает успешно именно потому, что имеет дело с абстракциями, а не с отдельными мирами. Вопрос «о чём же должна заботиться геометрия?» – это риторический вопрос, показывающий практическую несостоятельность теории отделения. Она делает науку невозможной, лишая её чётко определённого предмета. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 54-55).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн видит здесь обращение к аристотелевскому понятию «первого по природе» (prôton physei). Для науки важен именно тот объект, который является причиной для других, а не тот, который логически или онтологически изолирован. В платонической иерархии «математических миров» невозможно установить, что является таким «первым», следовательно, наука теряет свой фундамент. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ7).
4. Расширение критики на другие науки и чувственные свойства.
Так же обстоит дело и с числами… [13] Кроме того, как можно разрешить трудность, на которую мы уже обратили внимание в апории? Ведь тогда то, чем занимается астрономия, окажется так же за пределами чувственного восприятия, как и то, чем занимается геометрия…
Проблема: Демонстрация абсурдных следствий теории для всех наук и чувственных качеств. Если для геометрических объектов есть отдельный мир, то по той же логике он должен быть для объектов астрономии (небеса), оптики (зримые образы), гармонии (звуки). Это привело бы к существованию отдельного неба, отдельного голоса и, в конечном счёте, даже отдельных животных.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель применяет логику платоников ко всем без разбора сущностям, доводя её до абсурда. Это классический приём reductio ad absurdum. Если последовательно проводить принцип «каждому понятию соответствует отдельно существующая сущность», то мир распадётся на бесконечное количество изолированных «миров-двойников», что уничтожает целостность и связность универсума, столь важную для аристотелевского мировоззрения. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 325).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет интерпретирует этот пассаж как доказательство того, что аристотелевская философия науки является единой. Он не допускает онтологического разрыва между физикой, математикой и другими науками. Все они изучают один и тот же чувственный мир, но с разных сторон, абстрагируя разные его аспекты. Платонизм же, напротив, онтологически разрывает науки друг от друга, помещая их предметы в разные миры. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 27).
5. Конфликт с физикой: математическое не может быть причиной и субстанцией.
В общем, если таким образом представить математическое как отдельное существование, то возникает конфликт как с истиной, так и с обычными предпосылками [19]. Ведь в этом случае математическое должно было бы быть раньше чувственно воспринимаемых величин, тогда как в истине оно позже…
Проблема: Онтологический аргумент. Математические объекты (линия, поверхность) в реальном мире (по сущности) позже тела, так как тело – завершённая субстанция. Они являются абстракциями от тела. Тело онтологически первично, а его математические свойства – вторичны. Линии и поверхности не могут быть субстанциями, так как не являются ни формой (как душа), ни материей (они не могут «страдать», т.е. быть подвержены изменению).
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова акцентирует внимание на аристотелевском понимании субстанции как того, что существует самостоятельно и является субъектом изменения. Математические объекты не удовлетворяют этому критерию: геометрическую линию нельзя отделить от тела, она не может ни возникать, ни уничтожаться самой по себе, ни быть причиной изменения. «Таким образом, математические объекты не могут быть ни формальной, ни материальной причиной чувственных вещей, а значит, не могут быть искомой вечной и неподвижной субстанцией». (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс видит здесь ключевой момент: аристотелевская иерархия бытия основана на понятии актуальности. Чувственное тело актуально, оно есть «вот это нечто» (tode ti). Математические объекты (поверхность, линия, точка) являются его потенциями, мысленными выделениями. Потенция не может быть онтологически раньше актуальности. Поэтому мир математических объектов, если бы он существовал отдельно, был бы миром потенций без актуальности, что для Аристотеля немыслимо. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 412).
6. Различение приоритета в понятии и приоритета в реальности.
Поэтому они могут быть более ранними в понятии, но не все, что является более ранним в понятии, является также более ранним в реальном существовании… Отсюда следует [26], что ни то, что вычитается, не является более ранним, ни то, что создается сложением, не является более поздним…
Проблема: Уточнение статуса математического. Аристотель признаёт, что математические объекты логически (в понятии) prior: мы можем мысленно вычесть все свойства тела и рассмотреть только его геометрическую форму. Но это не означает, что эта форма существует реально отдельно от тела. Это различие снимает главный аргумент платоников.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров считает это различие фундаментальным для всей западной философии науки. Аристотель отделяет гносеологический порядок (порядок познания) от онтологического (порядка бытия). Мы познаём сложные вещи через анализ их простых составляющих (например, тело через его поверхности и линии). Но из этого не следует, что эти простые составляющие существуют раньше сложных. Напротив, целое онтологически первично по отношению к своим частям. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 38).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир утверждает, что именно это различие позволяет Аристотелю «спасти явление» математики, не впадая в платонизм. Математика имеет дело с объектами, которые являются «первыми по определению» (мы даём определение точке, а не телу, состоящему из точек), но это не имплицирует их отдельного существования. Математика – это наука об абстракциях, а не о самостоятельном мире. (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1982). – P. 176).
7. Итоговый вывод о способе существования математического.
О том, что, следовательно, математическое не более субстанциально, чем телесное, и что оно не раньше по бытию, чем чувственно воспринимаемое, а только по понятию, и что оно нигде не может существовать отдельно, было достаточно сказано. [28] Но поскольку, как мы видели, оно не может существовать и в чувственном, из этого следует, что оно либо вообще не существует, либо существует только определенным образом, а значит, не абсолютно, ибо существование выражается в разных смыслах.
Проблема: Формулировка окончательной позиции Аристотеля. Математические объекты не существуют ни в чувственных вещах как физические компоненты, ни отдельно от них как самостоятельные сущности. Они существуют «определённым образом» – как абстракции, мысленно выделенные из чувственных вещей разумом. Их бытие – это бытие в мышлении.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подводит итог: Аристотель находит третий путь. Математические объекты существуют, но не как субстанции, а как «мыслимые содержания», как продукты деятельности ума по абстрагированию. Их бытие – это бытие «в возможности», актуализируемое в акте математического познания. «Таким образом, Аристотель… признает объективную значимость математических истин, но отрицает онтологическую реальность математических объектов помимо акта мышления». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 88).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на последнюю фразу о том, что «существование выражается в разных смыслах» (pollachôs to on legetai). Это отсылка к центральной доктрине «Метафизики» о многозначности бытия. Бытие математического объекта – это не бытие субстанции, а бытие как атрибут, как свойство, рассматриваемое в абстракции. Этот вывод позволяет Аристотелю сохранить математику как науку, не переступая границ своего эмпирического онтологического принципа. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 423).
Глава 3. Положительное определение статуса математики как науки об абстракциях.
1. Принцип абстракции: как математика существует, не будучи отдельной сущностью.
[1] Ибо как общее в математике относится не к вещам, отдельным от величин и чисел, а именно к ним, но не в той мере, в какой они имеют величину или делимы, так, очевидно, возможно, что существуют понятия и доказательства разумных величин, но не в той мере, в какой они разумны, а в той, в какой они являются величинами.
Проблема: Положительный ответ на вопрос, поставленный в конце предыдущей главы: каким образом математическое всё же существует? Аристотель вводит ключевое понятие абстракции. Математик изучает те же чувственные вещи, но не в их чувственной конкретности (цвет, температура, движение), а лишь в одном, мысленно выделенном аспекте – как величины, фигуры, числа.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров подчёркивает, что здесь Аристотель формулирует ядро своей философии математики. Абстракция – это не создание нового объекта, а селективное внимание ума. «Математик… рассматривает реальные физические объекты, но игнорирует (ἀφαιρεῖ) все их свойства, кроме количественных и пространственных. Таким образом, математические объекты существуют, но не как самостоятельные сущности (οὐσίαι), а как абстракции (ἐξ ἀφαιρέσεως)». (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 39).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир акцентирует, что аристотелевская абстракция решает главную проблему: она объясняет объективность математики (она о реальном мире) и её точность (она о простых, мысленно выделенных аспектах этого мира). «Математика для Аристотеля – это наука о физических объектах, рассматриваемых квази-независимо от их материи. Её объекты – это "как если бы" объекты (hôs echorismena), а не действительно отделённые (kechorismena). Это эпистемологическое, а не онтологическое отделение». (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2, 1982. – P. 169).
2. Аналогия с другими науками: предмет науки определяется её аспектом рассмотрения.
[2] Ибо подобно тому, как существует множество понятий величин лишь постольку, поскольку они находятся в движении, совершенно отдельно от сущности каждой величины и ее случайных свойств… так и понятия и науки о телах… будут существовать не постольку, поскольку они находятся в движении, но постольку, поскольку они только тела… [3] Поскольку, таким образом, можно с истиной сказать не только о том, что имеет отдельное существование, что оно есть, но и о том, что не существует отдельно, например, о том, что движется, можно с истиной сказать и о математическом, что оно есть…
Проблема: Обоснование законности абстракции через аналогию. Медицина изучает тело не как тело вообще, а как здоровое; физика изучает тело как движущееся. Так и математика изучает тело как геометрическое тело, как поверхность, как линию. Предмет науки – не отдельная сущность, а аспект рассмотрения реальной сущности.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль видит в этом пассаже доказательство единства аристотелевской системы наук. Разные науки – это не разные онтологии, а разные взгляды на одну и ту же реальность. «Аристотель проводит мысль о том, что один и тот же предмет – чувственно воспринимаемое тело – может изучаться разными науками, каждая из которых абстрагирует свой собственный аспект: физика – аспект движения, математика – аспект величины и формы, первая философия – аспект бытия как такового». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 56).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на фразу «можно с истиной сказать… что оно есть». Это ключевой момент: Аристотель расширяет значение «бытия» за пределы категории субстанции. Быть движением – это один способ бытия, быть величиной – другой. Математика истинна, потому что она высказывается о реальном аспекте бытия сущего, а не о фикции. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ8).
3. Онтологический статус математических объектов: бытие как абстракция.
[6] Многие определения этого рода по существу приписываются вещам в соответствии с различными точками зрения, под которые попадает каждая вещь: так, например, животное имеет свои особые качественные определения, поскольку оно является самкой или самцом, не имея, однако, существования самки или самца отдельно от животного: то же самое происходит, когда животное рассматривается [7] в той мере, в какой оно является только длиной или поверхностью.
Проблема: Уточнение онтологического статуса. Математические свойства (быть линией, поверхностью) реальны и присущи вещам, но не существуют отдельно от них, подобно тому как свойство «быть самцом» реально, но не существует отдельно от самого животного.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель использует здесь аналогию с другими не-субстанциальными категориями (качество, отношение). Это помещает математические объекты в общий онтологический контекст: они являются акциденциями, свойствами субстанций. «Математические атрибуты существуют в субстанции (ἐν ὑποκειμένῳ), а не сами по себе. Они онтологически вторичны, но именно это и позволяет им быть предметом точной науки, ибо они, в отличие от самой субстанции, неизменны и лишены материальной неопределённости». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 328).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс подчёркивает, что эта аналогия показывает зависимость способа бытия от способа познания. То, как мы рассматриваем вещь (как самца, как длину), определяет, какой аспект её бытия мы выделяем. Бытие математического объекта – это бытие-в-аспекте (being-under-an-aspect), а не абсолютное бытие-само-по-себе. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 415).
4. Гносеологическое преимущество математики: точность благодаря простоте.
[7] Чем раньше понятие и чем проще вещи, тем большую точность они допускают. [8] Такой вещью является простое. Таким образом, то, что не имеет величины, допускает большую точность, чем то, что имеет величину, и особенно то, что не имеет движения.
Проблема: Объяснение, почему математика является точной наукой. Математика абстрагируется от сложности и изменчивости материального мира, имея дело с простейшими и неизменными аспектами реальности (форма, количество). Эта простота объекта и обеспечивает точность и достоверность математических доказательств.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит здесь основание аристотелевской иерархии наук по степени их точности. Математика точнее физики, потому что её объект проще и неподвижнее. «Точность науки прямо пропорциональна простоте и неизменности её предмета. Поскольку математика имеет дело с такими абстракциями, как число и фигура, которые лишены материальной изменчивости, она и достигает высшей степени точности и доказательности, недоступной физике, изучающей движущиеся тела». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 197).









