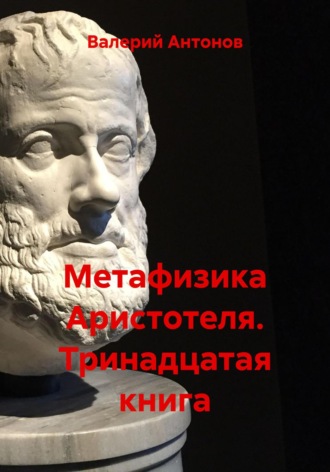
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга

Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга
Обзор XIII книги «Метафизики» Аристотеля: Критика платонизма и поиск первоначал.
Введение
XIII книга (часто обозначаемая как Книга М) – один из ключевых и наиболее полных текстов Аристотеля, посвященных критике платоновской теории Идей и пифагорейского учения о числах как самостоятельных сущностях. Это не просто полемика, а фундаментальное онтологическое исследование, цель которого – расчистить путь для собственного учения Аристотеля о сущем как таковом. Центральная проблема книги, как верно обозначено, – существуют ли помимо чувственных вещей неподвижные и вечные сущности (как утверждают платоники), и если да, то могут ли ими быть Идеи или математические объекты?
Для глубокого понимания аргументов Аристотеля необходимо привлечь комментарии как отечественных, так и зарубежных исследователей. Среди них:
А. Ф. Лосев в труде «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» детально анализирует связь аристотелевской критики с его учением о форме и материи, подчеркивая онтологический статус общего.
Изучение того, как античные и средневековые комментаторы разрешали апории Аристотеля, является ключом к пониманию развития перипатетической мысли. В этом контексте современный исследователь Д. В. Бугай в работе «Александр Афродисийский и его трактат «О смешении» в контексте комментаторской традиции на Аристотеля» и других своих исследованиях детально показывает, каким образом позднейшие перипатетики, и в первую очередь сам Александр Афродисийский, интерпретировали и развивали учение Стагирита, предлагая решения его сложных апорий. Эта традиция комментирования не только проясняла исходные тексты, но и становилась источником самостоятельных философских учений, оказавших огромное влияние на всю последующую европейскую философию.
Из зарубежных комментаторов можно выделить В. Д. Росса (W. D. Ross), чье издание «Метафизики» с комментариями считается классическим, а также М. Фреде (M. Frede) и Г. Чернисса (H. Cherniss), тщательно проанализировавших полемику Аристотеля с Платоном.
Общая структура книги:
1. Критическая часть (Главы 1-9): Всестороннее опровержение онтологического статуса математических объектов и Идей.
2. Конструктивно-апоритическая часть (Глава 10): Формулировка центральной апории о принципах и наведение мостов к собственному решению Аристотеля.
Разбор по главам с привлечением комментаторов.
Глава 1. Введение и постановка проблемы.
Аристотель четко объявляет цель: исследовать, существуют ли кроме чувственных субстанций какие-либо неподвижные и вечные. Прежде чем излагать собственное учение, необходимо подвергнуть критике учения предшественников, главным образом, платоников и пифагорейцев, которые утверждают существование таких сущностей – Идей и математических объектов (чисел, геометрических фигур).
Ключевой тезис: Выделяются два главных претендента на роль нематериальных субстанций. Намечается план: сначала исследовать математические объекты, затем – Идеи.
Комментарий: Как отмечает Лосев, Аристотель здесь не просто полемизирует, а ведет имманентную критику: он показывает, что сами предпосылки платоников ведут к логическим тупикам. Основная дилемма для математического: существует ли оно в чувственных вещах или отдельно от них? Оба варианта, по Аристотелю, несостоятельны.
Глава 2. Критика самостоятельного существования математических объектов.
Содержание посвящено опровержению двух возможных моделей существования математического.
Против существования математических объектов в вещах (как особых телесных сущностей):
(а) Аргумент от физики: Два тела не могут занимать одно и то же место.
(б) Аргумент от неразличимости: Если каждое свойство (например, плоскость) – отдельное тело, то вещь оказывается состоящей из бесконечного количества тел.
(в) Апория делимости: Тело не может состоять из неделимых точек или линий, так как это противоречит самой концепции непрерывной величины.
Против отдельного существования математических объектов вне вещей (хориста):
– Аргумент «недопустимого умножения сущностей» (трихотомия): Если существует отдельное математическое тело (например, сфера сама по себе), то должны существовать и отдельные составляющие его поверхности, затем линии, затем точки, и так до бесконечности. Это, по Аристотелю, онтологический абсурд.
Вывод: Математические объекты не могут существовать ни как физические компоненты вещей, ни как отдельные от них сущности.
Глава 3. Положительное определение статуса математики у Аристотеля.
После критики Аристотель предлагает собственное решение – теорию абстракции (aphairesis).
Ключевые тезисы:
– Математик изучает те же чувственные вещи, но не qua (как) чувственные, а qua обладающие величиной, фигурой, количеством.
– Метод математика – мысленно рассматривать не-отдельное (свойство) как если бы оно было отдельным. Это гносеологическая, а не онтологическая процедура.
– Точность математики объясняется простотой и неизменностью ее объекта, абстрагированного от материи.
Комментарий (Лосев, Росс): Здесь ключ к пониманию аристотелевского реализма. Математическое существует реально, но не как отдельная субстанция, а как аспект реальной вещи, который мысль может выделить и изучить. Это снимает необходимость в «другом мире» платоновских идей.
Глава 4. Критика теории Идей: генезис и логические противоречия.
Аристотель анализирует исторические и логические корни учения об Идеях.
Исторический генезис (знаменитый историко-философский экскурс):
– Реакция на Гераклита (всё течет) → поиск неизменного объекта для науки (эпистемологический мотив).
– Сократ искал общие определения (logoi) в этике.
– Платон гипостазировал эти определения, превратив их в отдельные сущности (Идеи).
Логические апории:
– Аргумент от «третьего человека»: Если конкретный человек причастен Идее Человека, то должно быть нечто общее между ними, то есть новая, высшая Идея, и так до бесконечности (regressus ad infinitum).
– Проблема причастности: Остается неясным, как именно вещи причастны Идеям. Метафоры «подражания» или «причастности» не являются строгим философским объяснением.
Комментарий (Чернисс): Аристотель показывает, что теория Идей не решает ту самую проблему обоснования знания, ради которой была создана, а порождает новые, еще более сложные проблемы.
Глава 5. Критика каузальной роли Идей.
Аристотель доказывает бесполезность Идей для объяснения мира, то есть их неспособность выполнять функцию причин (aitiai).
Ключевые аргументы:
– Идеи не являются ни движущей (не вызывают изменения), ни целевой (не ради них происходят процессы), ни формальной (они отделены от вещей) причиной в полном смысле.
– Они ничего не объясняют в возникновении или изменении чувственных вещей.
– Многие вещи (артефакты, отрицательные явления) возникают без предполагаемых для них Идей.
Главный вывод: Идеи – бесполезная дублирующая сущность («худому кормчего крик» – пустая поэтическая метафора).
Главы 6-8. Детальная критика чисел как субстанций
Это наиболее техническая часть книги, где Аристотель проводит систематический разбор всех возможных вариантов онтологии числа у платоников и пифагорейцев.
Ключевая классификация: Число может быть:
1. По единицам: Все единицы счислимы и взаимозаменяемы (однородны) или же каждая единица уникальна и несчислима (гетерогенны, как в «идеальном числе»).
2. По онтологическому статусу: Отделено от вещей (Платон) или имманентно им (пифагорейцы).
Основные опровержения:
– Если единицы однородны → получается математическое число → Идеи не могут быть числами (теряется их уникальность и сущностное отличие).
– Если единицы уникальны (идеальное число) → нарушаются основы математики (сложение 1+1 становится невозможным, так как каждая «1» уникальна), возникает регресс («третья единица» в двойке).
– Если числа имманентны вещам (пифагореизм) → невозможно построить физическое тело, имеющее величину, из математических единиц, не имеющих величины.
Заключение: Любая попытка онтологизировать число, сделать его отдельной субстанцией ведет к логическим абсурдам и разрушает саму математику как науку.
Глава 9. Итог критики и диагноз ошибки платоников.
Аристотель подводит итог и выявляет коренную ошибку.
Ключевые тезисы:
– Основная ошибка платоников заключается в гипостазировании общего, то есть в смешении математической и онтологической реальности и превращении универсалий (universalia) в самостоятельно существующие сущности.
– Правильный путь, намеченный еще Сократом, – искать общие определения (logoi), но не отделять их от вещей.
– Причина ошибки – реакция на Гераклита. Платоники решили, что если чувственное изменчиво, то объект науки должен существовать отдельно от него. Аристотель же показывает, что форма (эйдос) существует в самой вещи.
– Внутренние разногласия среди платоников (что первично: идеи или математические числа?) – лучшее доказательство ошибочности их исходных предпосылок.
Глава 10. Апория принципов и утверждение аристотелевского реализма.
В заключительной главе Аристотель формулирует центральную дилемму философии и намечает путь к ее решению.
Апория: Чем являются первоначала и элементы сущего?
– Если они единичны → они непознаваемы (наука, по мнению платоников, имеет дело только с общим).
– Если они общи → они не могут быть субстанциями (ибо субстанция (ousia) – по Аристотелю, всегда «вот это» (tode ti), нечто единичное).
Решение Аристотеля: Снять дилемму через анализ познания и учение о форме и материи.
– Знание потенциально – общее (как форма в душе).
– Знание актуально – всегда о единичном, но постигаемом через общую форму.
– Первоначала (форма, материя, лишенность) – не отдельные сущности, а имманентные принципы самих единичных вещей.
Комментарий (Бугай, Фреде): Аристотель разрешает апорию, пересматривая саму концепцию сущности. Подлинной сущностью является синтез общего (форма) и единичного (материя) – конкретная чувственная вещь. Общее существует не separate, а in re.
Итоговый вывод.
Подлинная реальность для Аристотеля – это единичные чувственные субстанции (отдельный человек, вот это дерево). Общее (форма, эйдос) существует не отдельно, а в них, как их сущностное начало. Истинное знание достигается не через созерцание запредельных идей, а через изучение чувственного мира, выявление в нем устойчивых форм, видов и причин. XIII книга, таким образом, является гигантским обоснованием аристотелевского имманентного реализма и критикой трансцендентного идеализма Платона.
Общее резюме и значение XIII книги.
XIII книга «Метафизики» представляет собой исчерпывающий приговор платоническому идеализму, вынесенный с позиций аристотелевского имманентного реализма. Аристотель не ограничивается простой критикой, а совершает три фундаментальных действия:
Ставит диагноз: выявляет гносеологический корень ошибки платоников – их поиск неизменного и абсолютного объекта для научного знания, что и привело к гипостазированию идей.
Предлагает альтернативу: разрабатывает позитивное решение проблемы:
Для математики: теорию абстракции, объясняющую статус математических объектов без приписывания им независимого существования.
Для онтологии: теорию имманентной формы, согласно которой сущность (чтойность) вещи существует не отдельно, а в самой единичной вещи.
Формулирует центральную проблему: выводит дискуссию на новый уровень, формулируя апорию о природе первоначал (общее vs. единичное). Эта проблема станет стержневой для всей последующей европейской философии.
XIII книга выполняет ключевую системную функцию: она служит мостом между критикой предшественников и позитивным изложением собственного учения Аристотеля о неподвижном перводвигателе, которое последует в XII книге.
Критический узел системы: роль XIII книги в структуре «Метафизики».
XIII книга «Метафизики» не является изолированным текстом; она глубоко интегрирована в общий замысел всего корпуса «Метафизики» и других сочинений Аристотеля. Её связи можно разделить на несколько уровней.
1. Связи внутри «Метафизики»
XIII книга – это ключевая часть «практического» применения онтологии Аристотеля, изложенной в центральных книгах, к критике главного философского оппонента – Платона.
С книгами VII-IX (О сущности, форме, материи, акте и потенции):
Это основополагающая связь. Книги VII-IX – это позитивное изложение собственной онтологии Аристотеля. XIII книга – это негативное, критическое отражение тех же тем.
Критика Идей в XIII книге прямо опирается на учение о сущности из VII книги. Аристотель доказывает, что сущность (форма) не может существовать отдельно от единичной вещи (choriston), в то время как Платон делает именно это со своими Идеями.
Его критика пифагорейцев, строящих тела из чисел, основана на гилеморфизме (учении о форме и материи) из этих же книг. Число не может быть материей, так как материя – это принцип возможности, а форма – принцип действительности и определённости.
Обсуждение единого и многого в XIII книге отсылает к анализу этих понятий в X книге.
С книгой XIV (Λ, 6-10):
Книга XIV является прямым продолжением и дополнением XIII книги. Если XIII книга критикует платоников и пифагорейцев с общей онтологической точки зрения, то XIV книга focuses на критике их учения о первоначалах (Единое и Неопределённая Двоица) и показывает, как их ошибки в онтологии числа ведут к несостоятельности их космологии и теологии.
С книгой XII (Λ) (О неподвижном перводвигателе):
Здесь связь проблемная. Книга XII – вершина «Метафизики», где Аристотель представляет собственное учение о высшей, божественной, нематериальной и неподвижной субстанции.
Парадокс: В XII книге Аристотель утверждает существование нематериальной субстанции, а в XIII – критикует это же учение у Платона.
Разрешение парадокса: Критика направлена не против идеи нематериальной субстанции вообще, а против конкретного способа её существования у платоников. Аристотель отвергает:
Множественность вечных сущностей (мир Идей).
Их статичность и каузальную бесполезность.
Их трансцендентность (отделённость от мира).
Его собственный Перводвигатель – един, является конечной причиной всего движения (а не бессильной моделью) и, хотя он трансцендентен, его бытие имманентно миру как цель стремления.
С книгой IV (Γ) (О природе и задачах первой философии):
Критика платонизма в XIII книге является практическим исполнением программы, заявленной в IV книге. Там Аристотель говорит, что первая философия должна исследовать первые причины и начала, а также быть наукой о сущем как таковом. Анализируя и опровергая учение об Идеях и числах как о сущем, он очищает поле для правильного понимания сущего как такового.
С книгой I (А) (История вопроса о первоначалах):
XIII книга – это углублённый и детальный разбор того учения, которое в книге I было представлено в историческом обзоре как самое продвинутое, но всё же недостаточное – учения Платона и пифагорейцев.
2. Связи с другими сочинениями Аристотеля
«Физика»:
Это, пожалуй, самая важная внешняя связь. Критика в XIII книге постоянно опирается на принципы, изложенные в «Физике».
Учение о четырёх причинах (материальная, формальная, движущая, целевая) – главный инструмент критики. Аристотель постоянно показывает, что Идеи не являются ни одной из этих причин в платоновском понимании.
Анализ движения и изменения из «Физики» – основа для отвержения платоновского дуализма вечного, неизменного мира Идей и изменчивого мира вещей. Для Аристотеля форма имманентна вещи и является принципом её изменения.
«О душе»:
Теория абстракции, кратко изложенная в XIII.9, подробно разработана в III книге трактата «О душе». Аристотель объясняет, как разум (nous) абстрагирует формы от материи, что и является основой математического познания.
«Никомахова этика» (I.6):
Здесь содержится сжатая и яркая критика Идеи Блага. Аристотель argues, что благо реализуется в разных категориях (в сущности, в качестве, в отношении и т.д.), и therefore не может быть одной общей Идеи Блага. Это прямое продолжение критики из XIII книги, применённое к этической сфере.
«Вторая Аналитика»:
Гносеологические выводы XIII книги (о том, что знание касается общего, но существует только в единичном) основаны на теории доказательства и научного знания, разработанной в «Второй Аналитике».
Общий вывод о значении связей
XIII книга «Метафизики» – это стратегически важный узел в системе аристотелевской мысли. Она:
Защищает его онтологию (книги VII-IX) от главного конкурента.
Применяет его физические и гносеологические принципы («Физика», «О душе») к решению метафизических проблем.
Подготавливает почву для его собственного учения о высшей субстанции (книга XII), очищая её от неправильных, платонических interpretations.
Демонстрирует единство и системность его философии, показывая, как его учение о природе, душе, знании и этике согласуется с его метафизикой.
Без XIII книги метафизика Аристотеля выглядела бы незавершённой, так как она не дала бы отчёта, почему избран именно этот, а не платоновский путь к первой философии.
Тринадцатая книга. Окончательное опровержение платонического идеализма и чисел как субстанций. Апория принципов и утверждение аристотелевского реализма.
Глава 1. Критика учений о математических объектах и идеях как о субстанциях
1. Определение предмета исследования: вечная и неподвижная субстанция.
[1] Мы рассматривали природу чувственно воспринимаемой субстанции отчасти при исследовании физики материи, а затем при исследовании актуальности существующей субстанции. [2] Поскольку теперь нам предстоит выяснить, существует ли помимо чувственных вещей неподвижная и вечная субстанция, а если существует, то какова она…
Проблема: Переход от изучения чувственной субстанции (физического мира) к исследованию возможной нематериальной, вечной и неподвижной субстанции. Ставится главный вопрос всей последующей дискуссии.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что Аристотель здесь завершает всё здание своей метафизики, поднимаясь от физики (учения о подвижном) к первой философии (учению о неподвижном). Этот переход не случаен: он логически вытекает из необходимости найти первопричину всего движения и становления, которую самодвижущаяся природа (предмет физики) дать не может. «Аристотель приходит к выводу о необходимости существования неподвижного и вечного двигателя, который является чистой актуальностью, умом-перводвигателем, мыслящим сам себя. Вся дальнейшая критика платонизма и пифагореизма подчинена этой цели – очистить поле для обоснования собственного учения о высшей субстанции». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 79-80).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс указывает, что это предложение связывает учение «Метафизики» с «Физикой», особенно с кн. VIII, где доказывается существование первого неподвижного двигателя. Задача Метафизики – исследовать природу этой субстанции. Он также отмечает, что Аристотель уже исследовал чувственную субстанцию в кн. VII–IX (Z, H, Θ) и теперь переходит к сверхчувственной. «Главный вопрос, который теперь стоит перед ним, – существуют ли помимо чувственных субстанций другие, вечные и неподвижные, и если да, то как они соотносятся с чувственными и друг с другом». (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 403).
2. Методологический принцип: учёт мнений предшественников.
…мы должны сначала рассмотреть утверждения других философов, чтобы в одном случае, если они ошибаются, мы не оказались виновными в той же ошибке, а в другом случае, если у нас есть общее с ними учение, мы не могли бы обвинить в нем только себя. Ибо мы должны быть удовлетворены, если кто-то учит одним вещам более правильно, а другим, по крайней мере, не хуже.
Проблема: Обоснование необходимости критического разбора существующих теорий (Платона и пифагорейцев) для формирования собственной позиции, избегая их ошибок и признавая верные insights.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом пассаже классическое выражение аристотелевского метода, который она называет «критико-конструктивным». Аристотель не отвергает предшественников с порога, но видит в них союзников, частично нашедших истину. Критика платоников и пифагорейцев необходима, так как их учение об идеях и числах как самостоятельных сущностях является главным препятствием на пути к правильному пониманию нематериальной субстанции. «Аристотель стремится показать, что платоновские идеи и математические объекты пифагорейцев не могут быть теми вечными и неподвижными субстанциями, которые он ищет, ибо они… лишены причинной силы по отношению к чувственным вещам». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 194).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс интерпретирует этот методологический принцип как проявление аристотелевского «эпистемологического оптимизма». Истина не рождается в вакууме, и даже ошибочные мнения содержат в себе крупицу истины, которую нужно выявить. Критика Платона в последующих книгах – это не враждебный выпад, а попытка «спасти явление», то есть объяснить те интуиции, которые привели Платона к теории идей, но более корректным способом, согласующимся с аристотелевской онтологией. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 405).
3. Классификация существующих теорий о нематериальных субстанциях.
Существует два мнения [3] по рассматриваемому вопросу. С одной стороны, субстанция математическая, такая как число, линия и связанные с ними вещи, а с другой – идеи. Поскольку одни философы разделяют эти две субстанции – идеи и [4] математические числа – на две области, других их отождествляют, а третьи позволяют считать субстанциями только математические субстанции…
Проблема: Систематизация оппонентов. Аристотель выделяет два основных класса претендентов на роль нематериальной субстанции («математическое» и «идеи») и три варианта их соотношения между собой (разделение, отождествление, признание только математического).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай уточняет, что под «некоторыми», разделяющими идеи и математические числа, Аристотель подразумевает самого Платона и его прямых последователей (например, Ксенократа). Те, кто их отождествляет, – это, вероятно, Спевсипп, а те, кто признаёт только математические субстанции, – пифагорейцы. Эта классификация crucial, так как позволяет Аристотелю вести полемику не с абстрактным противником, а с конкретными философскими школами, каждая из которых будет критиковаться по отдельности в последующих главах. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 317–340).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на то, что Аристотель намеренно сводит все многообразие учений о сверхчувственном к двум типам: идеи и математические объекты. Это позволяет ему структурировать аргументацию. Его собственная теория Ума как перводвигателя будет представлена как третий, единственно верный путь, избегающий ошибок обоих лагерей. «Аристотель не отрицает реальность универсалий или математических истин, но отрицает, что они существуют как отдельные субстанции (ousiai). Его критика направлена против гипостазирования, против превращения абстракций в самостоятельные сущности». (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ5).
4. План последующего критического анализа.
…мы должны сначала рассмотреть математические, не добавляя к ним никаких других сущностей. [5] Так, например, мы не будем сначала спрашивать, существуют ли идеи или нет, и являются ли они принципами и субстанциями бытия или нет, но будем исследовать исключительно в отношении математического, существует ли оно или нет, и в утвердительном случае, как оно существует. После этого мы рассмотрим идеи в частности, просто и настолько, насколько это необходимо для удобства: ведь большая часть этого уже обсуждалась в экзотерических исследованиях. [6] Кроме того, мы должны более подробно остановиться на вопросе о том, являются ли субстанциями и принципами бытия числа и идеи. После идей это остается третьим [7] объектом исследования.
Проблема: Выстраивание чёткой последовательности опровержения. Аристотель намечает трёхчастную структуру:









