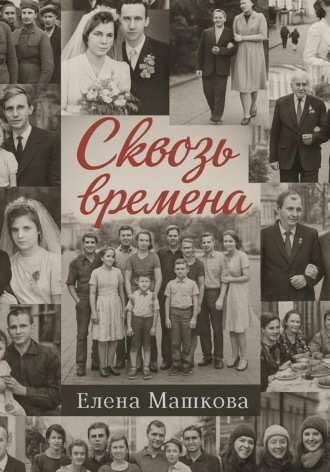
Полная версия
Сквозь времена
Анька наклонилась к поросятам. Один тут же вцепился в подол – зубы мелкие, но цепкие. Тащила их через двор, спотыкаясь о замёрзшие колеи. Серафим, стоя на коленях у свинарника, забивал гвозди с такой яростью, будто это не доски, а сама судьба.
– Держи, сварить надо! – кинул он ей мешок с картофельными очистками.
Печь в избе дышала жаром, как разъярённый бык. Анька мешала чугунок, глядя, как очистки пузырятся в воде.
– Ань! – Дарья ворвалась с вёдрами горячей воды. – Ты варишь или святых на стенах считаешь?
К ночи, когда поросят запустили в загон. Уставшая Анька села на перевёрнутое корыто, слушая, как новосёлы роют подстилку. Где-то за рекой заухал филин – может, потомок тех самых шишечных совят.
Серафим, вытирая руки о брюки, бросил через плечо: – Завтра навоз выгребать. К рассвету вставай.
Она кивнула, глядя как луна цепляется за конёк сарая.
Анька плохо спала ночью. Слёзы и тяжёлые мысли не давали ей покоя. Она ворочалась с боку на бок, в голове крутились мысли о том, как доказать Сашке свою искренность.
С рассветом она вскочила с кровати, накинула платок и выбежала на дорогу. Ноги сами несли её к тому месту, где должна была проехать телега. Сердце билось в груди, как пойманная птица, а в глазах стояла пелена слёз. Анька остановилась у берёзы, крепко обхватив ствол, и стала ждать, вглядываясь в даль. Сашкин силуэт на телеге казался чужим, будто его вырезали из обоев с охотничьим сюжетом и приклеили к рассвету.
– Сашка! – крик вырвался сам, как пар из переполненной кастрюли. Ноги понеслись, подол платья цеплялся за репейник – мамин сарафан, перешитый на вырост, теперь рвался в такт дыханию.
Он обернулся. Глаза – не те, что смеялись у елки, когда он вырезал совят. Теперь в них плавала та же серая муть, что и в лужах после осеннего ливня.
– Не смей уезжать! – пальцы впились в грубую ткань его куртки. Пахло дёгтем и страхом. – Я без тебя погибну!
Слёзы текли солёными ручьями, сливаясь с потом на шее. Вспомнилось, как в семь лет он вытирал ей нос подолом своей рубахи: «Нюни-то подбери, коровья царевна». Теперь же его ладонь легла поверх её пальцев, тёплая и чужая.
– Поженимся, как вернёшься! – выдохнула она, и тут же язык обжёгся стыдом. Слова повисли, как паутина между ветками – хлипкая, ненужная.
Он заговорил о совах из шишек. Анька вдруг ясно увидела тот сундук под кроватью – три шишки с осыпавшимися ягодными глазами. «Красивые, да ненастоящие» – прошипело в ушах, и она отпрянула, будто наступила на гадюку.
Телега дёрнулась. Филимон щёлкнул кнутом – старый хрыч специально, наверное, торопился. Сашкины пальцы соскользнули с её руки, оставив на запястье жгучий след.
– Найди парня… – ветер унёс остаток фразы к вороньему гнезду на сосне.
Анька прилипла к берёзе, кору вдавливая в щёку. Телега превратилась в тень, потом в точку, потом в биение в висках. Колени подкосились, трава оказалась мокрой от инея – вот и платок, тот самый, с вышитыми незабудками, теперь комком в зубах, чтобы не выл голос.
Где-то крикнула иволга – смеялась, наверное. Солнце выкатилось из-за леса, осветив на дороге следы колёс. Анька подняла камень, шершавый, как Сашкины ладони после сенокоса. Замахнулась, чтобы швырнуть вдогонку, но разжала пальцы. Упал в пыль, глухо, как её сердце.
Дорога пустовала. Анька встала, отряхнула платье. Пойдёт сейчас к реке, бросит в воду шишечного совёнка – пусть плывёт до города, пусть царапает Сашке сердце клювом из коры. А сама… Вырастет. Станет такой, что он, вернувшись, не посмеет назвать ненастоящей.
– Всё равно дождусь. Всё равно. Но, пока шла домой, по щекам текли слёзы – прозрачные, как её четырнадцать лет. И только ворона, сидевшая на покосившемся заборе, видела, как девочка с алой повязкой в косе шептала в опустевшую дорогу.
Глава 13. Деревня
Аньке едва исполнилось семь, когда жизнь начала медленно, словно река подо льдом, течь по раз и навсегда заведенному порядку. Каждое утро начиналось с того, что мать будила ее на рассвете: «Вставай, солнце уже в зените!» – хотя первые лучи едва золотили края туч. Анька ворчала, но покорно шла чистить навоз, носить воду из колодца и месить тесто для хлеба. Черные волосы, густые и непослушные, она собирала в косу, кончик которой вечно выбивался из-под платка. Карие глаза, большие и чуть грустные, словно отражали тусклый свет деревенских будней. Она была невысокой, почти хрупкой, но руки ее уже знали тяжесть работы – ладони покрылись мозолями, а пальцы стали ловкими и сильными.
Дни тянулись медленно, словно патока: рассвет, крик петухов, тяжёлая дверь коровника. Анька жила в постоянном ожидании весточки от Сашки, хотя он ясно дал понять, что она для него всего лишь ребёнок. Его слова, что она «маленькая девочка», жгли сердце, но она упрямо твердила себе, что докажет – она выросла.
Работа в совхозе выматывала до предела. Женщины в коровнике делали всё: от дойки до уборки навоза. Анька научилась управляться с тяжёлым ведром молока, не расплёскивая ни капли. Её руки покрылись мозолями, а спина научилась терпеть любую тяжесть.
Каждое утро она встречалась с Клавкой у колодца. Та всегда шутила: «Ну что, опять к Сашкиному дому пойдёшь?». Анька отворачивалась, делая вид, что не понимает. Но после работы неизменно пробиралась окольными путями к избе его матери.
Варвара, Сашкина мать, была суровой женщиной. Она никогда не заговаривала с Анькой первой, но та всё равно надеялась услышать хоть что-то о сыне. Однажды, встретив её у колодца, Анька набралась смелости:
– Матушка Варвара, а не писал ли ваш Сашка?
Варвара помолчала, глядя на свои мозолистые руки:
– Пишет. Как положено. О службе своей.
Сердце Аньки забилось чаще, но спросить больше она не решилась.
Анька научилась прятать свои чувства. Никто не знал, как она каждую ночь достаёт из сундука его совенка, как нюхает его, надеясь уловить знакомый запах.
В тот весенний день всё началось с тревожного стука в окно. Анька, спавшая на печи, вздрогнула и тут же проснулась. Рядом встрепенулась мать, Дарья. В окно стучал Демьян, он махал Серафиму, отцу, чтобы тот вышел. Мужчины о чём-то тихо переговаривались, а потом вошли в избу.
Сердце Аньки сжалось от недоброго предчувствия. Она знала этот взгляд Демьяна – взгляд человека, принёсшего дурную весть. И правда – нужно было сообщить Глафире, что её муж погиб под комбайном. А ведь Глаша носила под сердцем ребёнка…
Случилось это в разгар пахоты. Фрол, муж Глаши, чинил комбайн – опытный механизатор, он сто раз лазил под железным брюхом машины. Но в тот день что-то пошло не так. Все видели, как он махнул рукой помощнику: “Держи гаечный ключ!”, – и полез под ещё работающий агрегат. Крик услышали слишком поздно.
Деревня не могла поверить: “Да он столько лет за рулём! Как так-то?” – шептались на лавках. Все знали – виновата изношенная техника, которую годами не меняли.
Анька с Дарьей пошли к дому Глаши. Мать Фрола встретила их на крыльце – сухая, как жердь, в выцветшем платке. Глаза её, серые и колючие, сразу поняли всё: “Про Фрола?..” – голос дрогнул впервые за годы.
Глаша сидела за столом, обхватив округлившийся живот. Блуза на ней сидела мешком, подпоясанная верёвкой вместо пояса. Лицо, когда-то румяное, теперь было землистым, волосы – тусклой соломой. Увидев гостей, попыталась улыбнуться: “Чайку будете? Самовар вот-вот закипит…”
Дарья закашлялась, гладя её по плечу: “Дочка, случилась беда…”
Глаша сначала засмеялась – нервно, надрывисто: “Шутите? Фрол же с поля к ужину придёт…” Потом вгляделась в лица и закричала. Свекровь, стиснув челюсти, прижала её к себе: “Родимая, выплачься…”
Видела, как Глаша билась в истерике, царапая грудь, как мать Фрола, не проронив слезинки, качала её, словно ребёнка. В окно заглядывало солнце, освещая разбитую посуду на полу – обычный деревенский беспорядок, который теперь навсегда стал частью этой трагедии.
Когда первые журавли клином потянулись на юг по деревне разнеслись крики Глафиры. Роды начались внезапно – Петька, соседский пацан, нёсся по улице, спотыкаясь о корни вековых лип:
– Баба Даша! Родит Глашка-то!
В избёнке уже суетились повитухи. Офимья, опытная в таких делах, растопила печь покрепче: «Чтоб тепло дитю было!» На стол бросили чистую холстину, в углу кипятили воду в жестяном тазу. Глафира, вся в поту, сцепляла пальцы в кровь, ломая краешек лавки.
«Тужься, касатка, вижу головку!» – приговаривала Офимья, но что-то пошло не так. Повитуха копошилась между её ног, бормоча: «Господи помилуй, да что ж это…»
– В райцентр вези! – вдруг рявкнула Офимья, вытирая окровавленные руки о фартук. – Тут не выходит…
Серафим на телеге мчал их семь вёрст до райцентра. Глафира, бледная как смерть, стонала, обхватив живот. Анька, стиснув зубы, прижимала к её лбу мокрую тряпицу: «Держись, сестра!»
Роддом встретил их светом – ярким, слепящим, как в страшном сне. Белые халаты мелькали, как привидения, а холодные щипцы блестели, словно зубы волка.
«Рожай, гражданка!» – сказала акушерка голосом, не терпящим возражений, и Глафира беспомощно закивала. Когда крик новорождённого разрезал больничную тишину, Глафира заплакала. Не от счастья – от стыда. Ей казалось кощунством рожать в этом белом царстве, где даже воздух пахнет не жильём, а лекарственной смертью. Мальчишку завернули в пелёнку с фабричным клеймом – синюю полоску по краю.
– Мальчик. Три кило. – Медсестра протянула свёрток с синей полоской – Именем назовёте?
Глафира тронула сморщенное личико:
– Вань… Иван.
Деревня встретила их хлебом, но глаза у баб горели любопытством, а не радостью. «Слыхала? В больнице рожала! – шипели за спиной. – Чай, там ей живот-то разрезали, как свинье под ножом!»
Глафира, прижимая к груди свёрток, шла, опустив глаза, шептала: «Чистенький ты мой… как в том ихнем белом царстве…»
Свекровь же, разбирая гостинцы для повитух, ворчала: «И чего там врачи понимают? Мы и сами…» – но замолкала, замечая, как Глаша нежно прижимает к груди свёрток с Ванькой. В избе пахло печёной картошкой и свежим пелёнками – обычная деревенская жизнь, в которую теперь вплелась ниточка больничной стерильности.
А тем временем Анька носила свою тоску, как поддёвку – не снимая ни днём, ни ночью. Каждое утро, проходя мимо Сашкиной избы, она смотрела на заиндевевшее окно – не мелькнёт ли тень Варвары с письмом в руках.
К шестнадцати годам Анька расцвела, как дикая роза у околицы. Ее черные волосы отливали синевой под солнцем, кожа стала прозрачно-бледной, а в уголках губ появилась упрямая складка – след сдержанных улыбок. Мальчишки из соседних домов начали засматриваться на нее, когда она шла за водой. Одни подкарауливали у колодца, другие бросали через забор полевые цветы. Но Анька лишь отворачивалась, пряча лицо в складках платка. Мать, однако, замечала каждое такое внимание. «Гляди, Ванька Степанов глаз не сводит. Хозяйственный, изба новая. Не прозевай!» – говорила она, помешивая щи.
Вскоре мать перестала церемониться. «Пора замуж, – объявила она, ставя на стол миску с картошкой. – Сама видишь – женихи так и крутятся. Выбирай, пока молодость не ушла». Сваты приходили один за другим. Первым был Ванька – коренастый, с руками, как лопаты, и взглядом, который буравил землю, а не глаза. Потом явился Федор, сын мельника, – щеголь в сапогах с наборными каблуками, но с пустым смехом. Анька молчала, сжимая в руках край фартука. Ей хотелось крикнуть, что она не корова на ярмарке, но слова застревали в горле.
Однажды ночью, когда луна висела над оврагом, как серебряный серп, Анька убежала в лес. Присела под старой березой, обняла колени и заплакала. Платок сполз на плечи, а ветер играл с ее волосами, распуская косу. Она думала о том, как мать в шестнадцать лет уже носила под сердцем Глашку, а теперь требует того же. «А если я не хочу?» – шептала она в темноту. Но деревня жила по законам, где «хочу» не значило ничего.
На следующий день мать поставила ультиматум: «К закату решай – Ванька или Федор. Не выберешь – сама найду тебе мужа». Анька смотрела в окно, где за рекой догорал закат. Вдруг она вспомнила, как в детстве бегала босиком по росе, смеялась и мечтала быть барыней и пить чай из фарфоровой чашки. Но мечты эти казались теперь глупее щебетания сороки.
Утро выдалось ясное, солнечное. Лучи пробивались сквозь занавески, играя на половицах. Анька сидела за столом, сжимая в руках краюшку хлеба. Мать, Дарья, гремела посудой, готовя завтрак.
– Выберу сама, – твёрдо произнесла Анька, – и замуж ещё год не пойду!
Дарья замерла, медленно повернулась:
– Да ты, никак, обнаглела совсем! Кто тебя кормить будет, пока ты тут выбирать будешь?
Анька поднялась из-за стола, выпрямила спину:
– А я работаю! С семи лет в совхозе!
Дарья, побагровев от злости, схватила полено, что лежало у печи:
– Ах ты, окаянная!
Полено просвистело в воздухе и ударило Аньку по скуле. Девушка вскрикнула, прижав руку к лицу. Пальцы окрасились кровью.
Анька выбежала из избы, прижимая платок к ране. Кровь текла по шее, пачкая сарафан. Деревня встретила её любопытными взглядами.
– Анька, что с тобой? – окликнула Клавка, соседка.
– Мать… полено кинула, – прошептала Анька, едва сдерживая слёзы.
Клавка повела её к фельдшеру. Та, ворча, промыла рану, наложила повязку.
– Дура ты, Анька, – сказала Клавка, – против матери идти. Но коль решила – держись.
Идя по тропинке к коровнику, девушки встретила Варвару – мать Сашки. Женщина долго рассматривала её перебинтованную голову, качала головой:
– Что приключилось-то, девонька?
Анька, не выдержав, упала ей на плечи. Всхлипывая, рассказала всё – и про женихов, которых мать навязывала, и про удар поленом, и про свою горькую судьбу.
Варвара слушала, поглаживая девушку по спине шершавой рукой. В её сердце что-то дрогнуло – может, память о собственном сыне, может, простое женское сочувствие.
– Ну, раз мать выгнала… – медленно произнесла она, – к нам приходи. Поживёшь пока. И на работу не ходи, я с председателем поговорю.
Анька подняла заплаканные глаза. Не верила счастью – жить в Сашкином доме! В доме, где каждый угол напоминал о любимом.
Солнце, пробиваясь сквозь чистые оконные стёкла, заливало комнату тёплым золотистым светом. Анька, переступив порог, замерла от неожиданности. Такого она не видела в своём доме – ни белоснежной скатерти на столе, ни выскобленных добела половиц, ни сверкающей, будто только что выбеленной печки.
– Ты чего пришла? – раздался звонкий голос, и из-за занавески вышла Елизавета.
Анька, чувствуя, как колотится сердце, рассказала всё – про встречу с Варварой, про её неожиданное приглашение, про свою горькую судьбу.
Елизавета слушала, подперев щёку рукой, а потом усмехнулась:
– Ну, Варвара, удружила! И что ты теперь думаешь делать?
В этот момент в комнату вошла Варвара. Её лицо, обычно суровое, сейчас казалось мягче обычного.
– А что тут думать? – сказала она, усаживаясь за стол. – Раз уж позвала, значит, так тому и быть. Только, девонька, не думай, что я из жалости. Просто сердце не камень.
Между Варварой и Елизаветой завязался негромкий разговор:
– Варвара, ты уверена? – спросила Елизавета, понизив голос. – Не слишком ли это?
– А что такого? – пожала плечами Варвара. – Девчонка хорошая, работящая. Глядишь, и пригодится нам.
– Но Сашка… – начала было Лиза.
– А что Сашка? – перебила её мать. – Он своё решение принял. А эта девка заслужила право на счастье.
Анька стояла, не смея пошевелиться. В её душе боролись радость и страх. Принять такое предложение – значит переступить через многое, поверить в доброту, которой она не ожидала от этой суровой женщины.
Варвара, словно прочитав её мысли, добавила:
– Только одно условие: работать будешь наравне со всеми. Бездельниц у нас не держим.
Анька кивнула, чувствуя, как слёзы благодарности наворачиваются на глаза. Впервые за долгое время она чувствовала, что нашла свой дом.
Сумерки окутали деревню, когда Варвара, накинув на плечи махровый платок, направилась к дому Лаврентьевых. Её шаги были твёрдыми, решительными – она знала, зачем идёт.
Изба Лаврентьевых встретила её привычным запахом печного дыма и кислого молока. Дарья, увидев гостью, нахмурилась:
– Чего припёрлась?
Серафим, сидевший у стола, поднял голову от газеты:
– Варвара Васильевна, проходите.
– Некогда мне рассиживаться, – отрезала гостья. – Пришла сказать, что ваша дочь теперь живёт у меня.
Дарья презрительно фыркнула:
– И что с того? Пусть живёт где хочет. Только кормить её я больше не намерена.
Варвара выдержала тяжёлый взгляд женщины:
– Это ваше право. Но считаю нужным предупредить – Анька теперь под моей опекой.
– Да мне без разницы, – махнула рукой Дарья. – Лишь бы с глаз долой.
Серафим, кашлянув, попытался смягчить разговор:
– Спасибо за предупреждение, Варвара Васильевна. Мы учтём.
Но Варвара уже поняла – здесь её не ждут с распростёртыми объятиями. Она развернулась к выходу:
– Ну, раз всё сказано… Будьте здоровы.
Хлопнула дверь, и в избе повисла тяжёлая тишина. Дарья, проводив взглядом гостью, пробормотала:
– Ишь, благодетельница нашлась!
В доме Варвары тем временем ужинали. Елизавета, заметив задумчивость дочери, спросила:
– О чём задумалась, Варвара?
Варвара, помешивавшая щи, ответила не сразу:
– Да так… О жизни. О том, как по-разному люди относятся к своим детям.
Анька, сидевшая за столом, опустила глаза. Она знала, что мать никогда не поймёт её выбора, но впервые в жизни чувствовала себя защищённой.
Рассвет застал Варвару у окна. Она смотрела, как просыпается деревня, и думала о том, что сделала правильный выбор. Принять Аньку в дом – значит дать девушке шанс на новую жизнь, шанс быть счастливой.
Анька, проснувшись раньше всех, уже хлопотала по хозяйству. В доме пахло свежим хлебом и надеждой на лучшее будущее.
Рассвет едва позолотил оконные стёкла, когда на пороге появился Филимон – человек молчаливый и всегда знающий больше, чем говорит.
Его взгляд, обычно прямой и твёрдый, сегодня казался тяжёлым, почти угрожающим. Он окинул Аньку внимательным взором, и та невольно поёжилась под этим взглядом.
– Доброе утро, – негромко произнёс Филимон, обращаясь к Варваре, которая как раз вышла из дома. – Смотрю, у тебя гостья.
Варвара, не дрогнув, встретила его взгляд:
– Доброе. Анька теперь живёт у меня.
Старик медленно кивнул, словно что-то прикидывая в уме:
– Быть беде, Варвара Васильевна. Ох, быть беде…
Не проронив больше ни слова, он взял со стола ломоть хлеба и вышел во двор. Его шаги гулко отдавались в утренней тишине, а Анька почувствовала, как холодок пробежал по спине.
В доме повисла тяжёлая тишина. Елизавета, почувствовав напряжение, спросила:
– Что это значит?
Варвара, помедлив, ответила:
– Филимон небось чует, гроза надвигается. Не к добру это.
Анька, сжав руки в кулаки, тихо спросила:
– Может, мне лучше уйти?
– И не думай, – отрезала Варвара. – Раз уж взялась за дело, надо стоять до конца.
Но тревога, посеянная словами Филимона, уже пустила корни в души всех троих.
К полудню вся деревня знала о случившемся. Женщины у колодца перешёптывались, качали головами:
– Слышали? Варвара Аньку к себе забрала!
– Да как же так? Дарья-то небось в ярости!
Слухи, как паутина, оплетали деревню, затягивая узел всё туже. Но Варвара, несмотря на все пересуды, стояла твёрдо, защищая свой выбор.
Дни в доме Варвары текли размеренно и спокойно. Анька быстро привыкла к новым правилам. Каждое утро начиналось с того, что она помогала Елизавете готовить завтрак, а Варвара учила её премудростям домашнего хозяйства.
– Смотри, как надо, – говорила она, вытирая пыль с подоконника. – Всё должно блестеть, как слеза.
Белоснежные скатерти менялись каждый день. Половицы скрипели от чистоты. Даже печка, казалось, улыбалась, такая она была чистая.
Варвара, поначалу относившаяся к Аньке с прохладцей, постепенно оттаяла. Они вместе ходили за водой к колодцу, вместе работали в огороде, вместе вечерами пряли лён.
– Знаешь, – сказала однажды Елизавета, – а я рада, что ты у нас поселилась. С тобой вечера короче.
Со временем Анька узнала, что Варвара была женщиной непростой судьбы. Потеряв мужа рано, она одна подняла двоих детей, не прогнулась под тяжестью бед. Её строгость была не от жестокости, а от желания защитить себя и своих детей от всех невзгод.
– Жизнь научила, – говорила она, сидя у окна. – Мягко стелешь – жёстко спать приходится.
Анька слушала эти истории, затаив дыхание. В Варваре открывался новый, неожиданный характер – мудрый, понимающий, способный на великодушие.
Когда в деревню начали возвращаться демобилизованные, Анька ждала Сашку с прежним нетерпением. И когда однажды утром она увидела, как солнце золотит белоснежную скатерть на столе, как играет бликами на начищенных половицах, она уверилась – здесь её место. Здесь её дом.
Время текло медленно, как мёд по ложке. Анька научилась читать по слогам. Мечтала научиться писать – может, тогда смогла бы рассказать Сашке, как изменилась. В коровнике она стала одной из лучших доярок. Её уважали за трудолюбие и молчаливость. Только Клавка знала, почему Анька так часто уходит в дальний угол хлева – там, у окна, она могла видеть дорогу, по которой когда-то уехал Сашка.
Дарья как-то заходила к ним, приносила гостинцы.
– Анька, – говорила она, – может, пора забыть обиды?
Но Анька молчала. В её сердце жила память о том ударе поленом, о несбывшихся надеждах.
А где-то в избе на краю другой деревни Глафира качала люльку. Малыш кряхтел, пытаясь поймать ртом синюю полоску на пелёнке.
«Спи, Ванюша, – напевала она. – Вырастешь – агрономом станешь, или учителем…».
Но слово «комбайнер» застревало в горле, превращаясь в тихий стон.
За окном скрипели телеги – везли новый комбайн, присланный районом после “несчастного случая”. Глафира резко закрыла ставни, прижимая сына к груди.
Так и жила деревня – в переплетении боли и надежды, где каждое утро начиналось с петушиного крика, а вечер заканчивался шёпотом у печи: «Авось, завтра полегчает…»
Глава 14. Дембель
Осенний день 1952 года выдался на редкость тёплым. Сашка, усталый после долгого пути шагал по просёлочной дороге, погружённый в свои мысли. Его сапоги мягко погружались во влажную землю, а в воздухе пахло опавшими листьями и приближающимися холодами.
Внезапно сзади раздался звук мотора. Старый председательский «ГАЗон» притормозил рядом с ним. Председатель, высунувшись из окна, весело крикнул:
– Сашок! Ты ли это? Вернулся, служивый? Залезай, подброшу до дома!
Сашка, расплывшись в улыбке, быстро забрался в кабину.
– Ну, рассказывай, как служба? – поинтересовался председатель, выруливая на дорогу.
– Всё хорошо, товарищ председатель, – отрапортовал Сашка, поправляя ремень. – Служил честно, не подвёл.
– Молодец! – похвалил председатель, одобрительно кивая. – А мы тут за тебя переживали, ждали. Мать-то твоя, небось, уже все глаза проглядела.
Да, наверное, – смущённо улыбнулся Сашка. – Товарищ председатель, у меня к вам разговор есть…
– Слушаю тебя внимательно.
– Я тут подумал… Хочу учиться пойти. В город уехать, может, даже в Москву.
Председатель удивлённо приподнял брови:
– В Москву, говоришь? А как же колхоз? Мать без тебя не справится, знаешь ли.
– Понимаю, товарищ председатель. Но у меня мечта такая… Знания получить, чего-то добиться.
– А мать что говорит?
Сашка замялся:
– Вот в том-то и дело… Не знаю, как ей сказать. Она ведь привыкла, что я здесь, рядом.
– Ну-ну, не переживай так. Мать поймёт. Она же видит, какой ты старательный.
– Спасибо за поддержку, товарищ председатель. Просто боюсь её расстраивать.
– А ты не расстраивай. Расскажи как есть, она у тебя разумная женщина. Может, и поддержит твою мечту.
Всю оставшуюся дорогу они говорили о планах Сашки, о том, как лучше поступить, и председатель обещал помочь с рекомендациями для поступления.
Сашка вышел из машины у родного дома. Тишина окутала его, словно тёплое одеяло. Он остановился, глубоко вдохнул прохладный осенний воздух и замер, впитывая каждую деталь знакомого пейзажа.
Он не мог оторвать глаз от этой картины, ставшей для него символом дома, семьи, детства. Сколько раз он видел этот пейзаж, сколько раз мечтал вернуться сюда… И вот он здесь, стоит, дышит полной грудью, вдыхает аромат родной земли.
Соскучился. Как же он соскучился по этим местам, по этому воздуху, по каждому камешку на дороге. Всё осталось прежним, словно время здесь остановилось, словно его никто и не ждал, и не провожал. Но именно эта неизменность давала ему ощущение дома, ощущение того, что он наконец-то вернулся туда, где его всегда будут ждать.



