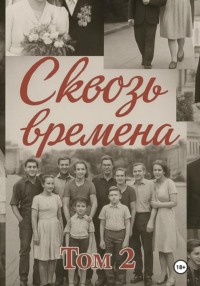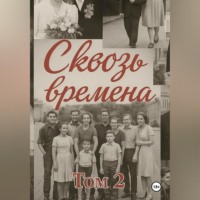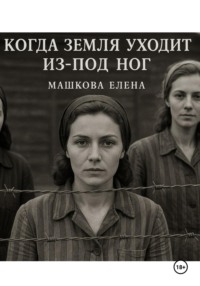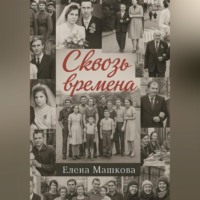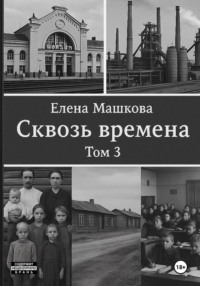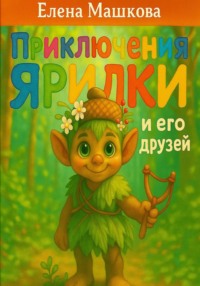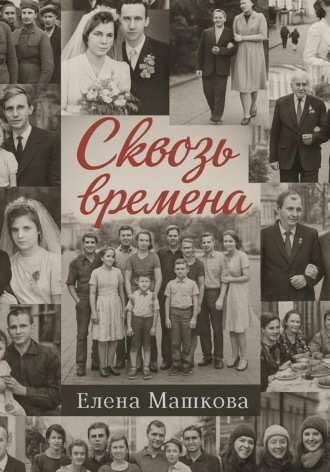
Полная версия
Сквозь времена. Том 1

Елена Машкова
Сквозь времена. Том 1
Предисловие
Эта книга – попытка собрать воедино осколки памяти, рассыпанные временем. Она рождалась из обрывков детских впечатлений, семейных преданий и тихих разговоров за чаем, что когда-то звучали в стенах старого дома. Однако читателю следует помнить: перед ним не автобиография, а художественное переосмысление прошлого, где реальность переплетается с вымыслом, а историческая правда уступает место поэзии воспоминаний.
Многие события здесь – плод авторского воображения, призванный передать дух эпохи, её быт, тревоги и надежды. Детское сознание, словно калейдоскоп, дробит факты на яркие узоры, где грани между случившимся и желаемым стираются. Имена героев изменены, некоторые образы – собирательны, а отдельные персонажи существуют лишь как метафоры, воплощая не столько конкретных людей, сколько саму ткань времени: его противоречия, утраты и неочевидную красоту.
Семья, о которой идёт речь, – не точная копия рода, а скорее мозаика, сложенная из разных судеб. Автор не претендует на документальность, но стремится показать, как личная история отражается в зеркале истории общей. Здесь важны не даты и факты, а то, как ветер эпох треплет занавески в детской, как отголоски войн и реформ вплетаются в разговоры за столом, как мечты одного поколения становятся грузом или наследием для другого.
Пусть эта книга будет воспринята не как хроника, а как попытка диалога с ушедшим временем – диалога, где правда памяти дополняется вымыслом, а реальные лица растворяются в полутонах, чтобы дать место чему-то большему, чем факты: пониманию, сочувствию, любви к тем, кто, возможно, никогда не существовал, но чьи судьбы стали частью нас самих.
Автор
Пролог. Персеиды
Теплый августовский вечер окутал дом, словно мягкое одеяло. Мы втроем устроились в спальне Дочки на втором этаже, где окно во всю стену открывало вид на небо, уже начинавшее усеиваться первыми звездами. Три поколения: моя Мама, я – наблюдательница и рассказчица всего, что происходит, и Дочка, которой всего пару дней назад мальчик сделал предложение, и ей уже не спится от эйфории и предсвадебных волнений.
Мы ждали Персеиды – тот самый звездопад, что каждое лето заставляет замирать сердца.
«Представляешь, если звёзд сегодня будет так много, что мы сможем загадать несколько желаний?» – шептала Дочка, склонившись к стеклу. Я улыбнулась и прикоснулась к её плечу: «Главное, чтобы желания исполнились не сегодня ночью, а потом, когда мы будем готовы их встретить».
Но вселенная, кажется, решила подкинуть нам и земные сюрпризы. За окном хлопнула дверь машины, сигнализация пискнула, и Мама, забыв про свои семьдесят, сорвалась с кресла, помчалась на первый этаж. «Пашка, не пущу!» – донёсся её звонкий голос со ступеней.
Ее голос раскатился по лестнице, а мы с Катей переглянулись и рассмеялись.
Через секунду снизу донесся стук холодильника – знакомый звук, сопровождающий нашу семью десятилетиями. Я закрыла глаза и увидела ту же картинку: Папа, небольшого роста, с седой щетиной, ловко петляет вокруг мамы, которая преграждает путь к кухне, как страж древних врат.
– Да я щей достать! Ты ж только сегодня варила! – его смех долетел до нас, а мама ворчала:
– Ты из ресторана! Подарок на юбилей – десять тысяч отдала! Торт бы хоть там поел, а не щи дома!
Папа всегда был душой любой компании: его смех мог разрядить любую обстановку, а добрые шутки поднимали настроение гостям. Но существовал неписаный закон: есть можно только за домашним столом или в лесу, собирая траву и ягоды. Нельзя у кого-то взять хлеба, ни крошки с чужого стола, ни чая у соседей. Всю жизнь мама пыталась понять и изменить этот обычай, но папа, несмотря на весёлость, не менялся и за пределами дома не ел, даже в гостях у меня с братом.
На небе вспыхивали серебристые росчерки, а снизу доносились смех и звон кастрюль.
Мама сдалась, как всегда, и налила Папе щей в его любимую миску с цветочками.
Мы спустились в гостиную, где он, довольный, уплетал щи под мамины ворчания:
– Хоть бы переоделся, неряха!
Три поколения женщин уселись на диван, а папа, поймав взгляд Кати, подмигнул:
– Не бойся, внучка. На твоей свадьбе торт съем – ради тебя.
И когда первая звезда сорвалась вниз, мы замерли в сокровенной надежде, что зимняя свадьба и все будущие вечера будут такими же тёплыми и полными любви.
А я потянулась за телефон и решила рассказать историю своей семьи, но надо определиться с чего начать…
Глава 1. Анька
Анька прижалась спиной к холодным сеням, затаив дыхание. Из-за двери доносился мамин голос, резкий, как удар косы по камню:
– Где ты, дармоедка? Опять крапивы принесу!
Она сжала кулаки, чувствуя, как под ногтями застревает труха от старых досок. Сегодня нельзя. Сегодня Сашка уезжал в город, и если встать у обочины, когда его телега будет проезжать мимо совхоза, можно крикнуть: «Счастливого пути!» – будто случайно.
Сашка. Высокий, в белой рубахе, всегда застёгнутой на все пуговицы. Даже когда он называл её «неучёной» – это звучало так изысканно, будто стихи из школьного учебника, который она сожгла в печке. Когда-то его бабке принадлежала вся деревня, ещё от Шереметьевых шли их родовые корни – но кто такие Шереметьевы и что за прародители, Анька не ведала. Его бабка, говорят, чай пила на крыльце из фарфоровой чашки, а их теперь бывший дом, с колоннами и окнами до пола, стоял на горке, как белый лебедь среди луж и покосившихся изб.
Анька выскользнула через пролом в заборе, краем глаза заметив, как мать машет пучком крапивы у сарая. Бежала, спотыкаясь о корни, мимо коровника, где с семи лет доила чужих бурёнок, мимо школы, в которую перестала ходить после того, как Петька Рыжий высмеял её платье, сшитое из маминой юбки.
В их роду грубая сила была в почёте: мужчины бивали всех женщин, и Нюрке не нравились эти мальчишки с разбитыми кулаками и в грязных рубахах. Как она не любила эту работу и этот тёмный дом!
«Учёность не прокормит», – бурчал папка, опрокидывая третью стопку, и старшая сестра, добавляла: «Лучше мужика ищи, пока лицо не обветшало».
На обочине, под раскидистой ивой, Анька поправила платок и вытерла ладони о подол. Вдалеке показалась телега Сашки. Сердце забилось так, что стало трудно дышать. Она шагнула на дорогу, подняв руку, будто ловила ветер.
Колеса скрипнули, телега остановилась, дед Филимон недовольно покачал головой, не нравилась ему эта Анька и семья ее была почти юродивая.
– Ты чего тут, Анна? – Сашка смотрел поверх её головы, будто за деревней уже видел городские огни.
Её сердце ухнуло. Она хотела сказать что-то смелое: о высоких окнах, о мягком кресле на крыльце, о чае в зеркальных чашках, как у его матери… Но вместо слов вырвалось:
– Проводить хотела… – голос сорвался в шепот.
– Мило. – Он улыбнулся уголком губ, как взрослый ребёнку, показавшему фокус. – Не замерзни тут.
Телега дернулась с места, брызнув грязью на её стоптанные ботинки. Анька стояла, пока лошадь не скрылась за поворотом, и вдруг поняла: он сказал – Анна. Он звал её «неученая» и относился скорее пренебрежительно, но вежливо, – а вежливость в их краю считалась почти лаской, и потому Анька считала эту снисходительность симпатией.
Возвращаясь, она свернула к Сашкиному дому. Высокие окна, как обещанные врата в другую жизнь, отражали закат. За стеклом мелькнула тень – может, его мать несла к столу тот самый фарфоровый сервиз. Анька прикрыла глаза, представив, как садится на крыльцо с чашкой в руках, но в ушах звенел мамин крик:
– Ага, нашлась!
Крапива жгла спину сквозь рваную кофту, но боль была привычной.
– Мечтаешь, как барыней станешь? – старшая сестра, фыркнула. – Ты ж даже читать толком не умеешь.
Ночью, когда дом затихал, Анька прокралась в сарай. В луче фонаря, пробивавшемся сквозь щели, она разглядывала обложку старого учебника, найденного в сундуке. «История рода Шереметевых». На какой-то странице, под слоем пыли, упоминалась Сашкина прабабка, но Анька не разбиралась в этих родовых деревьях.
Утром, пока мать хлопотала у печи, Анька вырвала из книги страницу с гербом – двуглавым орлом, впивающимся когтями в свиток. Сложила вчетверо, спрятала под подкладку фуфайки. Пусть Сестра смеётся. Пусть крапива жжётся. Где-то там, за поворотом, были города, где даже девчонки из совхоза могли стать кем-то больше, чем тенью у обочины.
А пока – надо было доить коров. Идти по мокрой траве. Дышать парным молоком. И ждать.
Глава 2. Ковалевы. Варвара Васильевна
Мелкий осенний дождь лениво барабанил по стеклам, когда Сашка проснулся от привычного, протяжного отклика пастуха. Этот звук, низкий и хриплый, был неотъемлемой частью деревенского утра, возвещая о начале нового дня. Из большой комнаты уже доносились приглушенные шаги матери – Варвара Васильевна, как всегда, была на ногах задолго до света, выгоняя коров на пастбище.
Туман, словно седая пряжа, ещё цеплялся за верхушки елей, когда Варвара Васильевна вытолкнула стадо за калитку. Сашка, притворяясь спящим, слушал голоса – мать, как всегда, говорила с пастухом ровно столько, сколько требовал порядок, ни секундой дольше.
«Здорово, Степан. Ноги не ноют? Вчера ж грязь по колено была». Голос её, властный и чёткий, разрезал утреннюю тишину, будто нож масло.
Пастух замер, снимая шапку – жест, сохранившийся с тех пор, когда усадьба на горе ещё дышала жизнью, а не пустыми глазницами окон.
«Слава Богу, Васильевна. Кости старые, да дождик-то тёплый – не ломит».
Он знал: её вопросы о здоровье – не пустая учтивость. Варвара Васильевна, как та самая немка-гувернантка из её детства, проверяла не только скот, но и людей – звенья одной цепи, скрепляющей хозяйство.
– Сено в овине сыровато. Не кашляют? – она кивнула на коров.
Щелчок кнута у ног передней бурёнки прозвучал отчетливо, будто точка в предложении:
«Пока ровно жуют. А к вечеру, гляди, солнышко подсушит».
Она уже повернулась к дому, но бросила через плечо:
– Смотри, сам не застудись. В котелке щи остались – зайди, коли к полдню не вернёшься.
Степан усмехнулся в седую бороду.
Варвара считала должным разговаривать со всеми пастухами, не чуралась их общества, потому что была доброй и воспитанной женщиной, которая умела ценить труд простых людей и уважала каждого, независимо от его положения. Воспитание, заложенное еще гувернанткой, было основой ее поведения с людьми. Деревня шепталась, что Варвара Васильевна – «не от мира сего»: барыней себя мнит, хоть и в лаптях ходит.
Но он-то помнил, как в голодный сорок третий она выменяла последнее серебро с иконы на муку для всей деревни.
– Ваша забота – нам подмога. Небось, Сашку-то в армию собираете? – вырвалось у него невпопад.
Она обернулась так резко, что сорока с криком слетела с рябины. В её глазах – тех самых, серых, как дым над Ходынским полем, – мелькнуло что-то острое, древнее, шереметьевское:
– Своих ворон считай, Степаныч.
Калитка захлопнулась, будто захлопнула рот на замок. Пастух долго смотрел на следы её калош – ровные, как строчки в её старых тетрадях.
«Не баба – крепость», – подумал он, трохая стадо к реке.
А Варвара Васильевна, стоя у печи, машинально гладила пожелтевшую фотографию: Иван в лётной форме улыбался с неё, как тогда, в июне сорок первого.
Отца Сашки не стало в войну – страшное, тяжелое слово, которое навсегда поселилось в их доме. Но мать, Варвара Васильевна, держала хозяйство крепко, поистине железной рукой. И даже наняла за "три копейки и картошку" помощника – хромого деда Филимона, который хоть и был стар, но обладал неожиданной силой и сноровкой. Под ее чутким надзором все в доме было в достатке: и хлеб, и молоко, и даже сахар, который в послевоенные годы был на вес золота. Варвара Васильевна была не просто хозяйкой – она была стержнем, вокруг которого вращалась вся их жизнь, оберегая своих двоих детей: старшую дочь Вальку, уже совсем взрослую, и Сашку.
Варвара Васильевна не любила эту деревню. Каждое утро, глядя на тусклое небо Заречья, она ощущала щемящую тоску по прошлому, по другой, утраченной жизни. Ее мать, Елизавета Николаевна, была потомком самих Шереметьевых. После революции родители Варвары уехали сюда, в имение, пытаясь спастись от лихолетья. Но их родовое гнездо – тот самый дом на горе, с величественными колоннами, что теперь стоял полуразрушенный и обезображенный, – был отобран, они поселились в дровнице, полуразрушенное строение, но главное была крыша. Теперь вокруг старого дома все было перекопано в поисках закопанных драгоценностей, над чем Варвара всегда лишь грустно посмеивалась. Знала она: ничего там не найдут. Все, что имело ценность, было не в земле.
Ее отец, Василий, был человеком другой закалки, но с недюжинной хваткой. Несмотря на дворянское происхождение жены, он сумел приспособиться к новой власти и даже стал руководить конезаводом, подняв его из руин. Именно он обеспечил дочери образование, отправив ее в город.
Варвара Васильевна вспоминала столицу, ее шумные улицы, библиотеки, театры. Сразу после учебы она встретила Ивана, своего будущего мужа. Молодые специалисты, полные энтузиазма, они вместе строили аэропорт на Ходынском поле, мечтали о покорении неба. Там, в городе, родились их дети – Валька и Сашка. Жизнь казалась безоблачной, полной перспектив. Но тут пришла война.
Иван ушел на фронт в первые же дни, отец Василий погиб под Смоленском в 1941-м. Варвара, собрав детей, уехала к матери в эту самую деревню Заречье, спасаясь от наступающих врагов. Мать Варвары Елизавета была волевой женщиной, обладающей невероятной внутренней силой. Даже немцы, пришедшие в сорок первом, обошли их избу стороной, словно чуя незримую крепость духа. Поселился лишь один офицер, который, к удивлению, берег чистоту и быт дома, не позволяя своим солдатам бесчинствовать. Но война не пощадила их семью: ни отец, ни муж с фронта так и не вернулись.
Сашка откинул тяжелую, вышитую занавеску, отделявшую его уголок от остальной избы. Несмотря на хмурое, безрадостное небо и отсутствие солнечных лучей, большая комната оставалась удивительно светлой. Окна, по деревенским меркам, были огромными, почти городскими, с широкими, крепкими рамами, что было невидалью для этих мест.
– Вставай, засоня! – Варвара, в переднике, украшенном вышивкой, поставила на стол глиняный горшок с парным молоком. – Все коровы уже на пастбище, а ты ещё дрыхнешь!
Сашка демонстративно потянулся, спустил ноги с кровати.
– Мам, я же почти взрослый, можно без этих няньканий? – в его голосе звучала нарочитая серьёзность.
Варвара улыбнулась, покачивая головой:
– Взрослый говоришь? А молоко пить будешь как маленький.
От окна донёсся тихий смешок. Елизавета, примостившись на кровати, наблюдала за этой сценой. Её глаза, хоть и подёрнутые пеленой, всё ещё хранили тепло.
– Ох, Сашок, – проговорила она негромко, – таким же важным приехал твой отец, когда ему восемнадцать стукнуло. Жениться решил, приехал свататься.
Сашка насупился, но не смог сдержать улыбку. Варвара разливала чай, добавляя в чашку сына малиновое варенье.
– Ешь, герой. И не строй из себя взрослого, пока не поел как следует.
Он взял ложку, но продолжал важничать:
– Мам, я серьёзно. Может, мне в город податься? Образование получить?
Варвара замерла, потом медленно села напротив:
– Об этом и говорить не смей. Сперва помоги мне с хозяйством, а там видно будет.
В сердце Варвары поселилась тихая тревога – сын вырос, и скоро армия разлучит их, но гордость за его взросление смешивалась с горечью неизбежного расставания.
Сашка вздохнул, но в его взгляде мелькнуло облегчение. Он знал: мать права. А ещё знал, что за её строгостью скрывается забота.
– Ладно, мам. Только ты не хворай, – буркнул он, отводя глаза.
Елизавета тихо покачала головой, улыбаясь этим вечным разговорам. В избе пахло теплом, печёным хлебом и детством, которое, как ни старайся, не перерасти.
Глава 3. Ковалевы. Письмо
Солнце уже поднялось высоко, заливая светом просторную избу. Сашка, стоя у окна, рассеянно следил за кружением пылинок в воздухе. Мысли его были далеко – там, где небо встречалось с горизонтом, где парили птицы, где он видел себя за штурвалом самолёта.
– Сынок, – голос матери вывел его из задумчивости, – сенные вороха проверить надо. Да и в хлеву прибраться не мешало бы.
Варвара, не поднимая глаз, продолжала чистить крынки. Сашка знал: она всё понимает, видит его тоску по большому миру, но долг перед семьёй, как единственного сына, не позволял ему уехать.
– Мам, – начал он осторожно, – может, в город съездить? Книжек достать, по учёбе?
Варвара замерла, но лишь на миг.
– Езжай, коли надобность есть. Только недолго.
Сашка кивнул, но мысли его уже были в другом месте. Он представлял, как будет учиться на лётчика, как покорит небо. Армия казалась ему не наказанием, а путём к мечте.
– Мам, – тихо произнёс он, – я ведь не для того, чтоб от вас убежать. Для будущего стараюсь.
Варвара подняла глаза, и Сашка увидел в них и тревогу, и гордость.
– Знаю, сынок. Только сердце ноет.
Он подошёл к матери, обнял её – неловко, по-взрослому.
– Ничего, мам. Я вернусь. Я ненадолго.
В этот момент скрипнула дверь. Елизавета, опираясь на клюку, вышла в сени.
– О чём шепчетесь? – голос её, хоть и слабый, сохранил прежнюю властность.
Сашка улыбнулся. Он знал: бабушка поддержит его мечту, пусть и не скажет об этом вслух. Ведь в их роду всегда ценили стремление к большему.
– Да так, о делах, – ответил он, чувствуя, как внутри растёт уверенность. – О будущем.
Изба наполнилась привычными хлопотами. Варвара, вытирая руки о передник, повернулась к сыну:
– Сашок, надо бы проверить погреб. Картошка, чтоб в зиму не промерзла. Да и в стенах щели – неладно это. Может, Сеньку позовём на подмогу?
Сашка, подпирая подбородок ладонью, рассеянно кивнул:
– Мам, я сам справлюсь. Не впервой.
В этот миг скрипнула калитка. Почтальон, раскрасневшийся от первого осеннего морозца, переступил порог:
– Здравия желаю! Письмо для Варвары Васильевны!
Елизавета, приподнявшись на кровати, строго спросила:
– Здравствуй, Алексей. А как там Петенька, здоров ли?
Почтальон расплылся в улыбке:
– Благодарствуйте за заботу, Елизавета Андреевна! Мальчишка растёт не по дням, а по часам.
Варвара распечатала конверт. Пока она читала, Сашка заметил, как дрогнули её пальцы.
«Дорогие мои! – гласило письмо. – Шлю вам свой поклон из Москвы. Как ваше здоровье? Как поживает бабушка Лиза? Передавайте ей поклон и скажите, что я всё помню, её уроки этикета.
Жизнь в столице кипит, но порой так тоскливо без вас. Работа на аэродроме занимает всё время, но я не жалуюсь – это мой выбор. С жильём пока сложно, но скоро обещают комнату.
Мамочка, как там наш Филимон? Не обижаете ли его? Он такой добрый человек.
Сашеньке привет! Пусть не унывает – скоро и его время придёт. Пусть готовится к армии, это верный путь.
Очень скучаю по нашей избе, по запаху печного дыма. Мечтаю приехать на праздники.
Обнимаю вас всех. Ваша Валя Ковалева»
Варвара сложила письмо, задумчиво поглаживая бумагу:
– Надо бы гостинцы собрать. Завтра, Сашок, съездишь в город за книгами и к Валентине заедешь!
Сашка встрепенулся:
– С радостью, мам! Хоть воздухом городским подышу.
Елизавета, следя за ним взглядом, произнесла:
– Смотри там, не шалопай. И сестру береги.
– Не извольте беспокоиться, – улыбнулся Сашка. – Завтра с утра и тронусь.
Варвара, провожая его взглядом, тихо сказала:
– Только не задерживайся.
В избе стало тихо. Только за окном ветер играл с сухими листьями, словно перебирая струны невидимой арфы. Сашка знал: завтрашний день принесёт новые надежды, а пока нужно доделать дела. Но мысль о поездке в город согревала его душу, как тёплое молоко в морозное утро.
Варвара медленно перечитала письмо, её голос дрожал:
– Вот, матушка, гляди, как Валюшка пишет… Просит передать тебе поклон.
Елизавета, не отрывая тёплой руки от ладони дочери, тихо произнесла:
– Какая же ты у меня умница, Варварушка. Как подняла детей, как выстояла!
Варвара опустила голову, смахивая непрошеную слезу. Перед глазами проносились годы: вот Валя делает первые шаги, вот идёт в школу, вот уезжает в город. Сколько ночей она проплакала тогда, но знала – держать дочь в деревне – значит загубить её судьбу.
Она вспомнила другое письмо, как проснулась ночью, и в свете луны написала письмо другу Ивана, отдавая ему самое дорогое:
«Многоуважаемый Пётр Михайлович!
Позвольте обратиться к Вам с нижайшей просьбой от лица нашей семьи. Как Вы знаете, судьба распорядилась так, что мой супруг Иван Петрович не вернулся с фронта, оставив меня с двумя детьми на руках.
Моя старшая дочь Валентина, которой исполнилось 15 лет, проявляет незаурядный талант и стремление к развитию. Она окончила семь классов с отличием и теперь находится в поиске своего пути.
Вспоминая те славные дни, когда мы вместе с Иваном Петровичем начинали строительство аэродрома на Ходынском поле под Вашим чутким руководством, я осмеливаюсь просить Вас о покровительстве. Не могли бы Вы рассмотреть возможность принять Валентину на начальную должность в аэропорту с перспективой дальнейшего обучения?
Буду бесконечно признательна за любую помощь. Уверена, что талант и трудолюбие моей дочери не останутся незамеченными.
С глубоким уважением и надеждой на Ваше участие,
Варвара Васильевна Ковалева»
– Помнишь, маменька, – прошептала она, – как я тебя слушала, как ты учила… «Каждый человек – звено цепи, но нельзя держать тех, кому суждено лететь выше».
Елизавета улыбнулась, словно прочитав её мысли:
– Верно, доченька. Сашенька твой – он ведь тоже не для деревни рождён. Пусти его с Богом.
Варвара вздохнула, глядя в окно, где небо сливалось с горизонтом. Дом действительно пустел, но она знала – так должно быть. Дети должны лететь туда, куда зовёт их душа. Даже если материнское сердце от этого разрывается.
– Скоро и Сашка улетит, – прошептала она, – но мы с тобой, маменька, дождёмся их. Обязательно дождёмся.
В избе стало тихо. Только тиканье старых часов да дыхание двух женщин, связанных не только кровью, но и пониманием того, что счастье детей важнее материнского одиночества.
Глава 4. Лаврентьевы
Деревня Заречье, будто старый графский перстень, затерянный меж холмов, хранила память о веках. С 1760 года стояла она на крутояре, глядя в небо островерхими крышами. Пятьдесят дворов, триста душ – и все как на ладони: река Свияга, узкая да бойкая, делила село надвое. На левом берегу, подальше от графской усадьбы, сохранившей свое белоснежное величие, селились приказчики да вольные крестьяне – избы крепкие, под железом, яблоневые сады до самой околицы. А на правом, в низине, где весной вода подолгу стояла, ютились потомки крепостных. Там и изба Лаврентьевых чернела у ручья, будто коряга, выброшенная половодьем.
Серафим Лаврентьев, хозяин дома, слыл в округе дивом: трактора КД-35, что другие на слом гнали, он с полпинка заводил. «У него в жилах солярка вместо крови», – перешёптывались мужики у конторы. Руки, знавшие каждую шестерёнку на ощупь, не спасали от зелёного змия. После очередной попойки председатель колхоза, Степан Игнатьевич, лишь махнул рукой: «Спится кобыле в дыму – пущай горит». Но сев озимых не ждал – до него неделя, а техника едва дышала, хрипя ржавыми легкими.
На рассвете, когда туман еще цеплялся за подолы огородов, председатель шагал к Лаврентьеву. Дом Серафима почти врос в землю: сгнившие срубы, забитые тряпьем окна, крыша, просевшая под грузом мха. «Ремонтник… – усмехнулся про себя Степан Игнатьевич, стуча в заскорузлую раму. – Свою избу как свинарник содержит, а моторы ладит – загляденье».
Из сеней высунулась Дарья, жена Серафимова, худая, как жердь. За ней маячили дочери – Глашка, шестнадцати лет, да Анька, четырнадцати. Обе босые, в засаленных фартуках.
– Спит ещё… – буркнула баба, даже не спросив, зачем пришёл.
Председатель вздохнул, вспомнив, как впервые увидев Дарью, он невольно залюбовался. Невысокая, ладная, с чёрными, как крыло ворона, волосами, собранными в тугой пучок, и карими глазами, что огнём горели. Смешливая была – как засмеётся, так весь дом ходуном ходит. Но характер —хуже некуда: стервозная да жадная, как лиса. Помнил, как три года назад уговаривал её девчонок в школу отдать: «Читать-писать – не лишнее!». Дарья тогда лишь фыркнула: «Моя мамка грамоты не знала – девятерых вырастила».