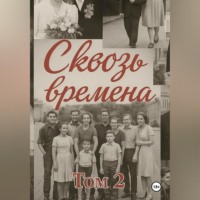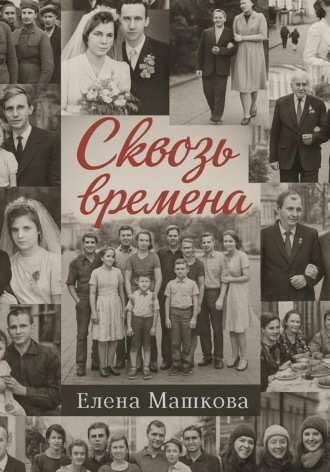
Полная версия
Сквозь времена. Том 1
– Ишь, уже набрался!
– Уйди, баба, не мешай! – прорычал он, пытаясь обойти её.
– Куда собрался, пьянь? – Дарья замахнулась шваброй. – Опять натворишь дел!
– Отстань! – Серафим оттолкнул её руку. – Мне на свинарник надо, там насос смотреть.
В этот момент из-за стола поднялся Демьян Петрович, главный механизатор совхоза:
– Серафим? Ты что ли? А я как раз за тобой посылать собирался! Там насос на свинарнике встал, без тебя никак!
Серафим, неожиданно для самого себя, выпрямился:
– Ну, раз надо – пошли смотреть.
Демьян Петрович аж подпрыгнул от радости. Не давая соседу передумать, он быстро собрал инструменты и повёл его к свинарнику.
– Только давай без выпивки, а? – на ходу бросил Демьян Петрович. – Дело серьёзное, без тебя никак не разберёмся.
Серафим молча кивнул. В его голове крутилась мысль о насосе, и странное чувство ответственности вдруг охватило его, то чувство – когда он нужен, когда от него зависит работа целого хозяйства.
На свиноферме их встретила целая толпа свинарок.
– О-о-о, никак сам Серафим пожаловал! – заголосили бабы, вытирая руки о передники.
– Здорово, бабоньки! – пробасил Серафим, стараясь не смотреть в их сторону.
– А мы уж думали, насос так и будет стоять! – засмеялась Марья. – Без тебя, милай, никак!
– Да ну вас, – буркнул Серафим, направляясь к агрегату.
– Эй, Серафим, а правда, что ты в молодости такой был – ух! – подмигнула ему молодка Настя.
Бабы загоготали, а Серафим только фыркнул:
– Да весь вышел. Давайте не мешайте, делом займёмся.
Пока он возился с насосом, бабы не умолкали:
– А помнишь, Серафим, как ты в прошлом годе…
– Тихо вы!
Серафим отошёл от насоса, вытирая грязные руки о передник.
– Ну что, бабоньки, включайте! – пробасил он, отходя в сторону.
Демьян Петрович щёлкнул рубильником. Насос натужно закашлял, заурчал, а потом вдруг ожил – и по трубам побежала жижа. Женщины ахнули от радости, когда в кормушки полился корм.
– Работает! Работает! – заголосили свинарки, хлопая в ладоши.
Демьян Петрович бросился к Серафиму, схватил его руку:
– Серафим, да ты просто волшебник! Век не забуду! Без тебя бы пропали!
Бабы окружили его, благодаря, но Серафим только отмахивался:
– Да чего там… Работа как работа.
Лицо его впервые за долгое время разгладилось, в глазах появилась какая-то новая, почти человеческая теплота. Но вдруг он помрачнел, огляделся по сторонам:
– Ты это… Демьян… У Глашки-то свадьба сегодня. Может, есть чего к столу? Сам знаешь – в доме шаром покати…
Демьян Петрович на секунду замер, потом хлопнул себя по лбу:
– Эх, Серафим! Как я мог забыть! Конечно, будет! Сейчас же распоряжусь, чтобы собрали! Для такой работы и для дочки твоей – не жалко!
Свинарки закивали, зашушукались – каждая хотела внести свою лепту в свадебный стол Глафиры. А Серафим, почувствовав себя не пьяницей и скандалистом, а человеком, нужным людям, тяжело вздохнул и побрёл к выходу.
Демьян Петрович сделал едва заметный знак Марье, и та, поняв без слов, быстро скользнула в подсобку, где хранились запасы кормов и мясо. Через минуту она вернулась, бережно неся что-то, завёрнутое в чистую мешковину.
– Вот, Серафим, прими от всего нашего коллектива, – пробасил Демьян, принимая из рук Марьи увесистый свёрток. – Свинина – дело серьёзное, к свадьбе самое то будет.
Серафим принял подарок тяжёлыми руками, даже не пытаясь скрыть удивление.
– Ну… спасибо, – выдавил он наконец. – Приму.
Марья, улыбаясь, добавила:
– Глафире поклон передай. Пусть живёт да поживает, счастья девичьего не теряет.
Серафим кивнул, прижимая свёрток к груди, и, не проронив больше ни слова, направился к выходу. За его спиной бабы перешёптывались, а Демьян Петрович, глядя вслед уходящему, удовлетворённо кивнул:
– Может, и человеком ещё станет…
А Марья, вздохнув, покачала головой:
– Дай-то бог, чтобы свадьба эта Глафире счастье принесла, а не горе…
Варвара Петровна стояла у окна конторы, наблюдая за происходящим во дворе. Её тонкие пальцы нервно перебирали бухгалтерские книги, а в душе нарастала тревога. Разговор у калитки с Клавдией, тихие слёзы Глафиры, грубые окрики Серафима – всё это складывалось в печальную картину будущей судьбы девушки.
«Как же так? – думала Варвара, прижимая руку к груди. – В наше время, когда страна восстанавливается, когда женщины получают права, когда образование доступно – и такая судьба для девушки. Выйти замуж за Фрола, который, говорят, не лучше её отца. Это же каторга, а не жизнь».
Она помнила, как сама когда-то приехала в эту деревню. Как старалась привить местным женщинам тягу к знаниям, как организовывала кружки, читала лекции. Но против традиций, против устоев, против бедности – бороться было сложно.
Решительно отложив бумаги, Варвара подошла к Дарье, которая усердно натирала пол до блеска.
– Дарья, – начала она мягко, – я хочу поговорить с тобой о Глафире.
Дарья подняла голову, и в её глазах вспыхнул недобрый огонёк.
– А что не так с Глафирой? – процедила она. – Её замуж выдают, как положено.
– Послушай, – Варвара понизила голос, – я знаю, что жизнь у вас тяжёлая, но этот брак… Может, стоит подумать о других вариантах?
Дарья выпрямилась, схватив швабру покрепче:
– Какие ещё варианты? В город ей идти? Так там работы нет. В учителя подаваться? Так кто её возьмёт без образования? А Фрол – мужик работящий, хозяйство крепкое. Что ещё надо?
Варвара вздохнула, понимая, что её слова здесь бессильны. Традиции, бедность, страх перед будущим – всё это сковывало судьбы деревенских девушек крепче любых цепей.
– Просто подумайте, – тихо сказала она, отходя от Дарьи. – Подумайте о будущем вашей дочери.
Но Дарья уже отвернулась, продолжая свою работу, словно разговор её не касался.
Анька закончила все дела на ферме раньше обычного. Она подошла к Марфе, которая доила последнюю корову:
– Марфа, у меня сегодня свадьба у сестры… Не могла бы ты дать кувшин молока? Дома совсем нечего на стол поставить.
Марфа, не отрываясь от работы, внимательно посмотрела на девушку:
– Ох, девка, не нравится мне эта свадьба… Глашка-то не рада, я ж вижу.
Она отставила подойник, пошла в молочную. Вскоре вернулась с полным кувшином, завернутым в чистую тряпицу:
– На, только под кофту спрячь. Не свети особо в деревне. И слушай меня, девка…
Марфа наклонилась к Аньке, понизив голос:
– Себя береги от воли матери. Гляди в оба, может, твоё счастье где-то рядом ходит. Не торопись замуж, пока сама не захочешь.
Анька благодарно кивнула, прижимая кувшин к груди:
– Спасибо вам, Марфа. Век не забуду.
– То-то же, – улыбнулась женщина. – И помни мои слова. В жизни всегда есть выбор, девка. Главное – не упустить его.
Анька, пряча кувшин под передником, тихо вышла со двора фермы, обдумывая слова Марфы. В её душе впервые за долгое время затеплилась надежда на что-то хорошее.
Анька вбежала в избу, тяжело дыша после быстрой ходьбы. Глафира сидела у окна, нервно сжимая край подола своего свадебного платья.
– Глаша, я молока принесла, – тихо сказала Анька, пряча кувшин за спину. – Марфа дала.
Началась суета подготовки. Анька помогла сестре облачиться в свадебное платье, аккуратно расправляя складки тюля. Платье сидело идеально, но лицо невесты оставалось бледным и безжизненным.
– Давай, сестрица, причешу тебя, – Анька достала гребень. – Коса-то у тебя всегда была завидная, жаль, что расплетать придётся.
Глафира молча кивнула. Анька принялась заплетать косу особым образом – не как у девки, а как у замужней женщины. В послевоенные годы многие старинные обряды уже не соблюдались, но некоторые традиции всё же сохранялись.
Дарья тем временем достала из сундука фату – тонкую, почти прозрачную ткань, бережно хранившуюся все эти годы.
– На, примерь, – буркнула она, протягивая дочери. – Хоть в чём-то краше будешь.
Анька помогла закрепить фату. В треснувшем зеркале отразилась девушка в белом платье, с грустью в глазах.
– Может, сбежим? – шёпотом предложила Анька, наклонившись к уху сестры.
Глафира только покачала головой:
– Куда бежать? Нас всё равно найдут. Да и некуда…
Анька обняла сестру:
– Ну что ж, Глаша… Будь сильной. Может, не так всё плохо обернётся.
Глафира лишь горько улыбнулась в ответ, продолжая смотреть в зеркало невидящим взглядом.
Серафим вошёл в избу, держа в руках увесистую свиную голову. Его лицо, несмотря на похмелье, выражало некое подобие торжества.
– Бабоньки, пока суть да дело, может, успеете приготовить? Стол накроем, как положено, – пробасил он, ставя голову на стол.
Глафиру тут же усадили на почётное место у окна, подальше от готовки, чтобы не испачкала свадебное платье. Анька с матерью засуетились вокруг стола.
Дарья, как опытная хозяйка, сразу взялась за дело:
– Анька, бери уши, отцу отдай – пусть опаливает на костре. А щёки завернём в лопухи, тоже в угли их.
Дарья сноровисто принялась за работу. Анька, выйдя во двор, передала уши отцу:
– Батя, вот, мама сказала ты знаешь, что делать.
Серафим, к удивлению всех, аккуратно уложил уши в угли, приговаривая:
– Знать, будет вкусно.
Дарья тем временем срезала мясо с головы, часть откладывая в сторону:
– Это в крапиву суну, запас будет. Засолим, зима придёт – пригодится.
Оставшиеся кости порубили на куски и поставили тушить в чугунок. По избе разнёсся аппетитный запах готовящегося мяса.
Анька, украдкой поглядывая на сестру, понимала – никакая еда не сможет заглушить ту тоску, что поселилась в сердце невесты.
Дарья, закончив с разделкой, оглядела результаты:
– Ну вот, дело пошло. Теперь и свадьбу можно справлять.
Но даже в её голосе не было той гордости, какая должна быть в день свадьбы дочери.
Солнце клонилось к закату, когда Глафира в своём свадебном платье вышла из дома. Её лицо было бледным, но фата, ниспадающая на плечи, придавала ей некое подобие торжественности.
Флор, уже поджидавший у ворот, выглядел непривычно прибранным – чистая рубаха, выглаженные брюки, в руках – скромный букет полевых цветов.
Серафим, неожиданно для всех трезвый, вывел дочь к жениху. Традиционно подвёл её к будущему зятю, держа за руку.
– Берите, – буркнул он, словно передавая какой-то скарб.
Флор осторожно взял руку невесты, стараясь не смотреть ей в глаза.
Началось традиционное шествие к сельсовету. Впереди шли музыканты – гармонист и балалаечник, за ними – жених с невестой, держащиеся на почтительном расстоянии друг от друга. За ними – сваты и близкие родственники.
У сельсовета уже собралась почти вся деревня. Женщины вытирали глаза кончиками платков, мужчины перешёптывались, обсуждая щедрость подарка от свинарника.
В небольшой комнате сельсовета, служившей и клубом, и ЗАГСом, их встретил Председатель. Церемония была краткой – послевоенное время не оставляло места для долгих речей.
– Согласны ли вы, Флор, взять в жёны Глафиру? – спросил секретарь.
– Согласен, – глухо ответил Флор.
– Согласны ли вы, Глафира, взять в мужья Флора?
Глафира едва слышно произнесла:
– Да…
После короткой росписи новобрачным вручили свидетельство.
Когда молодожёны вышли из сельсовета, их встретила шумная толпа односельчан. У ворот собралась околица – традиционное деревенское гуляние в день свадеб.
Музыканты уже заняли своё место под раскидистым клёном. Гармонист раздул меха, балалаечник настроил инструмент. Женщины выставили на лавки угощения: пироги, солёные огурцы, квашеную капусту.
Дарья, заранее подготовившаяся к этому моменту, достала из-за пазухи завёрнутую в тряпицу бутыль самогона. Она важно подошла к околице:
– Народ честной, принимайте гостинцы! За здоровье молодых!
Бутыль пошла по рукам. Музыканты заиграли весёлую мелодию, и околица ожила.
Глафира стояла бледная, держась за руку Флора. Тот, уже захмелев от предвкушения, пытался выглядеть важным.
– Ну что, дорогие мои, – начала Дарья, поднимая чарку, – давайте выпьем за счастье молодых! Пусть живёт да поживает, деток наживёт!
Стаканы наполнились, околица загудела. Женщины запели традиционные свадебные песни, мужчины затянули частушки.
– А теперь, – объявила Дарья, – первый танец молодых!
Флор неловко притянул к себе Глафиру. Она едва заметно поморщилась, но послушно пошла в такт музыке. Их танец больше походил на неловкое перемещение по кругу, чем на свадебное веселье.
Тем временем околица набирала обороты. Женщины подкладывали угощения, мужики разливали самогон. Кто-то уже пустился в пляс, другие затеяли игру в горелки.
Дарья, довольная своей ролью, важно ходила между гостями, следила, чтобы никто не остался без чарки. В её глазах читалась гордость – она устроила всё как положено, по-деревенски, с размахом.
Молодых осыпали хмелем и зерном, желали счастья и достатка. Но в глазах Глафиры не было радости – только тоска и предчувствие тяжёлой жизни.
Анька стояла в стороне от шумной околицы, наблюдая за сестрой. Впервые за долгие годы она по-настоящему осознала, как мало они были близки с Глафирой. Всю жизнь соперничали, обижались друг на друга. А теперь сестра уходит в чужую семью, навсегда.
Начался путь к дому жениха. Глафира ехала, опустив голову, Анька, сидевшая рядом, украдкой вытирала слёзы.
Телега медленно остановилась у ворот дома Флора. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая всё вокруг в тёплые золотистые тона.
У ворот стояла мать жениха – высокая, статная женщина в чистом переднике и новом платке. В руках она держала каравай, украшенный веточками калины и солью в глиняной солонке.
– С приездом, с приездом, – негромко проговорила она, когда молодые вышли из телеги. – Входите в новый дом, в новую жизнь.
Глафира, бледная и испуганная, остановилась у порога. Флор, чувствуя себя неловко, потянул её за собой.
– Переступите порог с караваем, – скомандовала свекровь, протягивая хлеб. – Чтобы жизнь была сытой да богатой.
Молодые, как учили, отломили по куску каравая. Свекровь внимательно следила, кто сколько отломит – по примете, кто больший кусок возьмёт, тот и в доме хозяином будет.
– Пусть живёт да поживает, – произнесла она традиционные слова. – Детей наживёт, дом сбережёт.
Затем, не улыбаясь, добавила:
– Теперь ты в моём доме хозяйка. Смотри, чтобы всё было чисто да опрятно. Чтобы муж был сыт, дом – в порядке, а хозяйство – в прибытке.
Глафира молча кивнула, чувствуя, как дрожат колени. Флор, не глядя на жену, прошёл в дом, показывая, что пора входить.
В избе уже накрыли стол. Расстелили чистую белую скатерть, которую достали специально для такого случая. Дарья с матерью Флора стали хлопотать вокруг стола, расставляя нехитрое, но сытное угощение. Мать Флора тоже постаралась, напекла пироги и натушила капусту.
В центре стола поставили большой чугун с наваристой похлёбкой, от которой поднимался ароматный пар. Рядом водрузили миску с тушёной капустой, щедро сдобренной свиным салом. К ней положили румяные ломти свиных щёк, которые успели запечь в лопухах. Уши, опалённые на костре, порезали тонкими полосками и выложили на отдельное блюдо. По краям стола расставили деревянные тарелки с домашними соленьями: хрустящие огурчики, да квашеная капуста с клюквой, не забыли маринованные грибы и мочёные яблочки! На отдельном блюде горкой лежали пироги: с картошкой и луком, с капустой, с ягодами. Рядом поставили миски с вареной картошкой и разместили каравай, украшенный веточками калины.
Хлеб нарезали толстыми ломтями и разложили по краям стола. В глиняные кувшины налили молоко и квас. Для особо почётных гостей Дарья достала из погреба банку малинового варенья.
Несмотря на послевоенную бедность, стол выглядел празднично.
Всё было просто, но от чистого сердца – как умели, так и встречали молодых в этот нелёгкий день.
Свекровь, не теряя времени, начала показывать невестке, где что лежит, что и как нужно делать. Глафира, опустив глаза, старалась запомнить каждое слово, понимая, что теперь её жизнь будет подчинена этим правилам.
Сердце Аньки сжалось от тоски. Она пробралась сквозь толпу, подошла к бледной, словно свеча, Глафире:
– Сестра, поешь хоть немного, – тихо проговорила она, протягивая кусок пирога. – Нельзя на голодный желудок.
Глафира машинально взяла угощение, но есть не стала. Анька, не говоря ни слова, села рядом, обняла сестру за плечи.
– Я… я всегда думала, что ты мне не родная, – неожиданно для себя призналась Анька. – Злилась, что мать тебя больше любит.
Глафира повернула голову, впервые за день посмотрев сестре в глаза:
– А я завидовала тебе, что ты смелая, что не боишься матери перечить.
Анька прижала сестру крепче:
– Глупые мы. Ты самая близкая мне теперь. Самая родная.
Она заставила Глафиру съесть хотя бы пару ложек каши, напоила молоком. Когда мать попыталась оттащить её от невесты, Анька впервые за много лет проявила характер:
– Не трогай! Пусть поест как человек!
В толпе начали перешёптываться, но Аньке было всё равно. Она чувствовала, как внутри растёт что-то новое – сестринская любовь, запоздалое понимание, что роднее человека в этом мире у неё нет.
Когда пришло время садиться в телегу, Анька не выдержала – разрыдалась, прижимая сестру к груди:
– Береги себя, Глаша… заходи хоть иногда…
Глафира, впервые за день улыбнувшись, кивнула. Глаша стояла, пока телега не скрылась за поворотом, и слёзы катились по её щекам, смешиваясь с вечерней росой.
Анька спрыгнула с телеги и медленно брела по деревенской улице, погружённая в свои мысли. Огромная луна ярко освещала деревню, бросая длинные тени на дорогу. В воздухе витал сладковатый запах полыни. Анька замерла, заметив необычную картину: Варвару Васильевну и Сашку у ворот их дома, о чём-то тихо переговариваясь. Сашка, который никогда не участвовал в деревенских загулах, сейчас выглядел непривычно спокойным и сосредоточенным.
Анька остановилась, не решаясь подойти ближе. В этой сцене было что-то особенное – та тихая гармония, которой так не хватало в её собственной жизни. В отличие от шумной свадьбы, здесь царила особая атмосфера: без криков, без пьяных выходок, без показного веселья.
Она прислонилась к забору, наблюдая за ними издалека. Варвара Васильевна, обычно такая строгая и правильная, сейчас казалась почти юной, а Сашка, всегда немногословный, словно раскрывался с новой стороны.
В груди у Аньки что-то дрогнуло. Впервые за долгое время она почувствовала, что есть другая жизнь – тихая, спокойная, наполненная настоящим, а не показным счастьем. Может быть, именно такой жизни ей и не хватало всё это время?
Не желая нарушать их уединение, Анька тихо развернулась и пошла домой. Но образ этой мирной сцены надолго остался в её памяти, словно путеводная звезда в темноте деревенской ночи.
Глава 10. Проводы
Телега скрипела на каждой кочке, а Филимон, нахохлившись, клевал носом. Сашка сидел рядом, подложив под себя мешок с сеном, и смотрел на звёзды. Ночь тихо вступала в свои права.
В голове крутились картинки московского дня. Политехнический музей с его удивительными машинами, книжный магазин на Кузнецком, где продавщицы улыбались ему, Валя с её рассказами о будущем аэропорта. Но чаще всего перед глазами вставало лицо Лиды – её карие смеющиеся глаза, когда он наступил ей на ногу в поезде, её лёгкая улыбка, когда она протянула руку для знакомства.
«Может, она и правда ждёт меня на Ленинских горках?» – думал Сашка. Он вспоминал, как легко они разговорились, как она рассказывала про ВДНХ и танцы под оркестр.
– Приехали, соколик. Мать небось вся извелась.Филимон вдруг проснулся, зевнул во весь рот:
Сашка очнулся от своих мыслей. Деревня встретила их тишиной и запахом травы. В окошке избы горел свет – мать не спала, ждала.
Пока Филимон распрягал лошадь, Сашка медленно шёл к дому. В ушах всё ещё звучал шум московского вокзала, а перед глазами мелькали кадры прошедшего дня.
– Сынок! Ну как же так поздно?Он тихо вошёл в избу. Мать, увидев его, всплеснула руками:
Сашка обнял её, чувствуя, как тепло родного дома прогоняет городские грёзы. Но перед сном, он снова и снова возвращался мыслями к Лиде, к её приглашению на Ленинские горы.
«Надо будет как-нибудь выбраться в Москву», – решил он, засыпая с улыбкой.
А в городе, возможно, Лида тоже не спала, вспоминая случайного попутчика с добрыми глазами и неловкими движениями деревенского парня.
В избе царила особенная, домашняя тишина – та самая, от которой закладывает уши после городского шума. Сашка приоткрыл глаза и прислушался к знакомому с детства скрипу колодца. Журавлиная шея медленно поднималась и опускалась, а где-то там, в глубине, плескалась студёная вода. За окном расстилался осенний лес – багряный и золотой. Первые лучи солнца пробивались сквозь кроны берёз, окрашивая их листья в огненные тона. В воздухе пахло опавшей листвой и приближающимися холодами. Лёгкий туман стелился по земле, делая мир вокруг похожим на старинную акварель.
Сашка поднялся с кровати, натянул сапоги. На улице было свежо – именно такая погода, когда воздух будто звенит от чистоты. Он подошёл к колодцу, зачерпнул воды в ведро. Ледяная вода обожгла лицо, но сразу привела в чувство, вернула к деревенской жизни.
У ворот стояла мать – казалось она стала маленькая, сгорбленная, но всё такая же родная. В её руках был конверт. Она не замечала сына, завороженно глядя на рассвет.
– Мама? – тихо позвал Сашка.
– Ой, сынок, напугал! Смотри, что вчера почтальон принес… Повестка тебе пришла. В военкомат требуют нынче же явиться.Она вздрогнула, обернулась, и её лицо показалось ему непривычно бледным.
Сашка почувствовал, как сердце забилось чаще. Мать протянула ему конверт, и в этот момент утренний ветер принёс запах опавших листьев и приближающейся зимы, а вместе с ним – неясную тревогу о том, что ждёт впереди. В такие минуты время словно останавливается, а прошлое и настоящее сплетаются в единый узор.
Сашкино сердце пропустило удар. Ледяная вода из колодца уже не казалась такой бодрящей. Он взял бумагу трясущимися руками – буквы расплывались перед глазами.
– Да как же так… – прошептал он, чувствуя, как земля уходит из-под ног. – Только с Москвы вернулся…
– Судьба, Сашок. Не нам её судить.Варвара тяжело вздохнула, поправила платок:
Сашка стоял, сжимая в руках повестку, и смотрел на осенний лес, который вдруг показался ему таким родным и далёким одновременно.
Мать прижала его к себе, и он почувствовал, как дрожат её плечи. Она молчала, но её молчание было громче любых слов. В её объятиях он ощущал всю материнскую боль предстоящего расставания. Москва казалась теперь недостижимой мечтой, а будущее – размытым пятном. Он вспоминал свой восторг от городской жизни, где каждый день таил в себе новые открытия. Там, в Москве, он чувствовал себя частью чего-то большого, важного. А теперь…
«Может, это и к лучшему?» – пытался убедить себя Сашка. Ведь он всегда мечтал о большом деле, о подвигах. Армия – это шанс проявить себя, стать настоящим мужчиной.
Но почему же тогда так щемит в груди? Почему перед глазами стоит мамино заплаканное лицо? Почему он не может забыть, как Валя рассказывала о своих планах построить новый аэропорт?
«Там, в армии, я стану сильнее, выучусь чему-то новому», – твердил он себе. Но внутренний голос шептал другое: «Ты упускаешь свой шанс. Москва ждёт тебя, а ты бежишь от неё».
Сашка пошел и сел старого дуба. Вспомнил, как в детстве лазил по его веткам, мечтал о полётах. Теперь эти мечты казались такими наивными… или всё-таки нет?
Он представил, как Лида, возможно, ждёт его на танцах, как Валя чертит свои первые проекты, как в Политехническом музее появляются новые экспонаты. А он… он будет где-то далеко, в казарме, маршировать по плацу. Чувство потери смешивалось с юношеским энтузиазмом. Он рвался к новому, но понимал, что отрывается от чего-то важного, может быть, самого важного в своей жизни.
«Ничего, – думал Сашка, – вернусь, и всё будет по-другому. Теперь я точно знаю, чего хочу». Но даже самому себе он не мог признаться, что эта уверенность – всего лишь попытка заглушить тоску по несбывшемуся. Сашка понимал: этот день станет поворотным в его судьбе, и неизвестно, к чему приведёт выбранный путь.
«Может, это и есть мой путь? – спрашивал он себя. – Может, именно там, в армии, я найду своё призвание?»
Но внутренний голос шептал другое: «Ты оставляешь всё, к чему только начал прикасаться. Ты обрываешь нити, которые могли бы привести к чему-то настоящему».
«Что важнее? – спрашивал он себя. – То, к чему стремишься, или то, от чего уходишь?»
В груди боролись два чувства: радость от новых перспектив и тоска от расставания с несбывшимися мечтами. Он понимал: этот выбор определит всю его дальнейшую жизнь. И от этого понимания становилось ещё тяжелее.