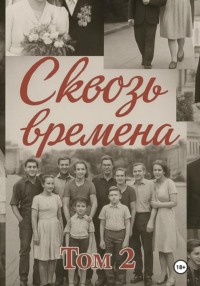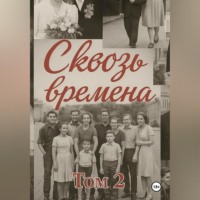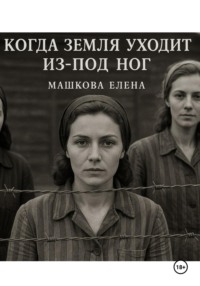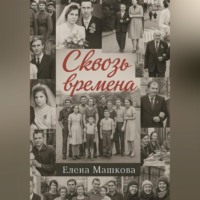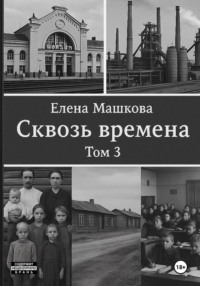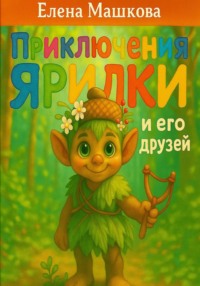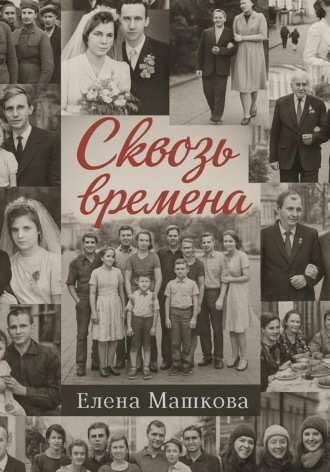
Полная версия
Сквозь времена. Том 1
А дочки её… Анька – вся в мать. Коса до пояса, щёки румяные, как яблоки антоновские. «Знатная девка будет», – поговаривали бабы на завалинке. А Глашка – в отца пошла: угловатая, нескладная, словно жердь. Но Дарья знала: главное —жениха побогаче найти. И пусть все знают – она своего не упустит.
Серафим явился на порог, запах перегара разит за сажень.
– Здорово, – буркнул, щурясь на свет, и вдруг, очнувшись, рявкнул через плечо: – Глашк! Самовар гони, гостя уважим!
Но едва услышал про СК-3 с убитым мотором – будто подменили.
– Щас, пару гаек подтяну… – забормотал, на ходу засучивая рукава.
Председатель, глядя, как мужик засобирался к железным потрохам трактора, вдруг поймал себя на мысли: «Вот она, Русь… И пьяница, и гений. И дом – в хлам, и двигатель – как часы. И дочки его… – он взглянул на Аньку, копошащуюся в грязи у забора, – вырастут такими же Дарьями, выйдут за таких же Серафимов. Круг замкнулся».
К полудню СК-3 тарахтел, будто новенький. Иван, вытирая руки о промасленную робу, хрипло бросил:
– Запчасти… рессоры на КД-35 треснули. Да гайки М12 штук пять…
– Ладно, – кивнул председатель. – Только к севу…
Степан Игнатьевич пошел в контору. Шёл обратно через реку, глядя, как на левом берегу комбайны уже грузили зерно, а на правом бабы, согнутые в три погибели, копали картошку.
«И не разорвать этот круг, – думал он. – Ни царям, ни комиссарам. Река всё так же делит. Только вместо барской усадьбы – контора колхозная…»
А в избе Лаврентьевых Глашка, швырнув в печь охапку хвороста, спросила у матери:
– Чего председатель-то приходил?
– Не бабьего ума дело! – отрезала Дарья, выковыривая ножом гниль из картофелин. – Квашню меси, аль рёбра выпрямлять помочь?
И девчонка, привычно вздохнув, полезла за мукой.
Дарья, перебирая в руках картошку с гнильцой, кряхтела да вздыхала. «Глашке уж шестнадцать минуло – пора… – мозговала она, выковыривая ножом глазки клубней. – Как мать-то моя говаривала: девка на выданье – лишний рот. Вон у Федосьиных трёх дочек за год замуж повыдовали – теперича и корову им зять привёл, и муки мешок…»
Она глянула на Аньку, что у печи золу скребла: «Эту раньше ярового не сбыть… Хоть бы до Кузьмы-Демьяна…»
Вспомнила, как сама в шестнадцать за Серафима шла – отец два ведра самогона сродникам жениховым отдал. «И то ладно – не бил по пьяни сначала… А как родила – стал…»
Мысли её путались, как нитки в неубранной избе:
– Глашке-то жених пущай из зажиточных… С левобережных. Там хоть хата не развалюха, картохи на зиму хватит… – Она вдруг зло сплюнула. – А то как моя мамка: «Харитона бери, у них кобыла есть!» А кобыла-то хромая…
Руки сами месили тесто, а в голове вертелось:
– Как выдашь – и харч на одного меньше. Да зять на покос помочь придёт, на ремонт… Ишь у Степанихи зятья каждый месяц дров привозят. А мои… – Она глянула на забитое тряпьем окно, за которым Серафим с утра уже бухал. – Мои-то добра не наживут…
Вдруг вскочила, будто ужаленная:
«А ну как сбрюхатеет, как я тогда…» – пальцы сами сложились в крестное знамение. – «Офимке наговор закажу, от мужиков…»
Анька, уронив совок, захныкала. Дарья рявкнула:
– Сопли распустила? Вот выдадим за Пахома-дурня – он те враз ум вправит!
Мысль о вдовьем сыне с коровой вдруг согрела: «Пущай там хлев метёт… Всё ж лучше, чем тут обуза…»
Она вышла во двор, глядя, как Глашка воду тащит. Спина у девки уже горбатая, как у старухи.
– Эй, лоботряска! – крикнула Дарья. – Завтра к Офимье пойдёшь, травы ей насушить. Скажешь, чтоб наговор дала… на женихов.
Девчонка потупилась, но мать уже не слушала. В голове стучало:
– Свадьбу справить до Покрова. Гостей – чтоб не больше трёх семей. А то Серафим всю выпивку споит…
Ветер донёс крики с левого берега – там, где трактора гудели. Дарья плюнула в сторону реки:
– Ишь, грамотеи… Бабы ихние в город сбегают, а мои хоть работящие…
Вечером, залезая на печь, она толкнула локтем Ивана:
– Слышь, за Глашку Фрол из Медведевки сватался. У них овцы три…
– Ага… – буркнул тот, не просыпаясь.
Дарья долго ворочалась, прикидывая:
– Овцы – шерсть. Тулупы шить можно… Али нет, лучше Семёна из Кузьмино – у них мельница…
Глава 5. 1949 взгляд назад
В тот год, когда отгремела Великая Победа, воздух ещё был наполнен привкусом пороха и слез, но сквозь него уже пробивалось хрупкое, почти немыслимое счастье. Молодой Сашка чувствовал эту двойственность острее других. Мир рукоплескал подвигу, а внутри страны, куда ни глянь, зияли черные дыры разрухи. Война не только оставила за собой сожженные города и поля, но и породила невидимые раны в душах миллионов, в том числе и в душе Сашки.
Одиннадцать миллионов солдат, шагали по пыльным дорогам, но куда идти, что делать? Казалось, армия, словно переполненный ковчег, не могла больше вместить своих героев. Казармы ломились, а страна, едва дышавшая после кровопролития, не могла их прокормить.
И вот, в 1946 году, словно гром среди ясного неба, прозвучало неожиданное решение: Сталин отменил призыв в армию на целых три года. Вместо винтовок молодым парням вручили лопаты. "Стройки коммунизма!" – звучало с трибун, но Сашка видел перед собой не грандиозные планы, а дымящиеся руины заводов, заросшие каналы и осиротевшие колхозы. Солдатские шинели сменились на грубые робы, а вместо стрельбищ – бесконечные, унизительные очереди за хлебом.
Тот год принес ещё одно испытание – засуху. Она добила и без того ослабленную экономику, высушила поля, превратила надежды в пыль. Сашка видел, как в магазинах зияли пустые полки, а в деревнях люди месили лепешки из лебеды, горькие на вкус, но спасавшие от смерти. Врачи ставили страшный диагноз – «алиментарная дистрофия», просто говоря, истощение от голода – почти миллиону человек. На улицах падали в обмороки, а в школах, Сашка слышал, учителя тайком подкармливали учеников картофельными очистками, чтобы хоть как-то поддержать их силы.
Пока простые люди боролись за каждый кусок хлеба, в армии, ещё не до конца расформированной, царил культ военачальников. Маршал Жуков, герой Сталинграда и Берлина, был идолом, его фотографии носили в нагрудных карманах. "Жуков – наша совесть", – шептались офицеры. Сашка и сам гордился такими командирами. Но Кремль, казалось, боялся их славы. В том же 1946 году Жукова внезапно отправили командовать Уральским военным округом. "Повышение", говорили вслух, но все понимали, что это ссылка. Сталин не терпел конкурентов, даже таких, что носили на груди столько звёзд.
К 1948 году армию урезали до 2,8 миллионов. Восемь миллионов разом уволили, словно ненужные шестеренки. Прошедшие ад войны, оказались на гражданке, часто без всего, что имели, с парой поношенных вещмешков и пустотой в душе. Им предстояло заново учиться жить в мирной, но все еще голодной и разрушенной стране.
Почему? Этот вопрос висел в воздухе, невысказанный, но ощутимый. Мы никогда не узнаем истинной причины такого решения. Была ли это сухая экономия ресурсов, отчаянная попытка поднять страну из руин? Или страх перед слишком сильными и популярными военачальниками, которые могли бросить тень на главного лидера, не терпевшего конкуренции? Или что-то еще, что осталось за семью печатями кремлевских кабинетов, в тенях подозрения, скользящих по стенам власти? В воздухе висела невысказанная тревога. Мы можем только гадать и вспоминать эту ситуацию, как один из самых загадочных и масштабных маневров в истории страны.
Но для Сашки, и для миллионов таких же, эти годы стали временем тихого героизма. Бывшие солдаты, сменившие винтовки на лопаты, строили города в чистом поле, инженеры создавали ракеты, а учителя – вопреки голоду – учили детей. И хотя в учебниках об этом напишут сухо, именно тогда, ценой миллионов личных драм и несбывшихся надежд, закладывалась основа будущей сверхдержавы. Сашка, хотел стать одним из тех с мозолистыми руками и шрамами на сердце, кто, не зная "почему", просто делал "что нужно".
Глава 6. Сашка
Ночью Сашка лежал, глядя на потолок, где трепетала тень от лучины. За стеной слышалось шуршание – Варвара перебирала в сундуке фотографии и перечитывала письма Ивана.
…………………….
Сентябрь начал выскребывать листья с берёз, когда по пыльной дороге заскрипели сапоги почтальона. Варвара, замесив тесто из картофельных очистков, увидела его через заиндевевшее окно – худого, в продуваемой ветром шинели, с потрёпанной сумкой через плечо.
Сердце ёкнуло: «Не сегодня, Господи, только не сегодня…»
– Документик из конторы, – протянул почтальон, доставая конверт с синей печатью. Его пальцы, сизые от холода, дрожали. – По расписке, Варвара Васильевна.
В руке, сжимающей конверт, отпечатались буквы: «Явиться к 08:00».
Варвара вышла на крыльцо, проводить почтальона.
– Всё, Варвара Васильевна, – он поправил козырёк, заляпанный грязью. – Больше бумаг нету.
Она кивнула, сжимая в кармане конверт с синей печатью. Внутри – повестка, пахнущая типографской краской и чужой волей.
– Спасибо, Алексей. – Голос сорвался, будто зацепился за колючий ветер.
Почтальон задержался, переминаясь в стоптанных сапогах. Варвара резко повернулась к калитке, железная скоба звенела.
– Идите с Богом.
Сашка, как ястреб, вынырнул из сеней:
– Мам, это… про призыв? – Глаза горели, будто в них отражались не ноябрьские сумерки, а майские салюты.
– В город едешь сейчас – резко оборвала Варвара, но сын уже выскочил на крыльцо, подхватив ведро с водой.
У калитки собрались соседи, посмотреть зачем это Филимон телегу запрягал.
Клавка, обмотанная платком до бровей, шептала, кивая на избу Серафима:
– Слышала? Глашку-то за Флора отдаёт. У того нрав – как у медведя в берлоге. Вчера в клубе…
– Брешешь, – фыркнул Филимон, опираясь на костыль. – Флор-то Глашу с детства охаживает.
– А синяк под глазом у неё откуда? – Клавка намеренно громко кашлянула, глядя на Варвару. – Ты бы, Варя, поговорила с Серафимом. Ты ж у нас…
– Вы чего тут стужитесь? – перебила Варвара, поправляя платок. – О чём разговор-то?
Сашка, поставив ведро, присел на забор.
– Флор вчера на мельнице говорил, – встрял почтальон, поправляя сумку. – В райцентре новый военком – фронтовик. Говорят, дембелям сразу звания дают…
– Враньё! – Филимон стукнул костылём. – Моего племянника в трудармию сгноили. Три года – и ни письма…
Варвара сжала подол фартука. Конверт в кармане жёг пальцы.
– Мам, – Сашка подошёл вплотную, пахнущий морозом и подростковой потливостью. – Я же смогу? Как папа…
Она резко обернулась, задев рукой крынку. Глиняный осколок впился в ладонь.
– Сможешь, – прошептала, вытирая кровь об фартук. – Всё сможешь.
А вокруг, в сизой дымке, ветерок начинал кружить листья – осенние клёны усыпали дорожку багряным ковром, а вдалеке, у расрушенной усадьбы, носились мальчишки, пытаясь поймать бумажные самолётики.
Сашка сидел на заборе, сжимая в кармане потёртый список. «Циолковский „Путь к звёздам“», «Справочник по радиотехнике», «Журнал „Знание – сила“» – слова сливались в мантру, заглушая пересуды у калитки.
– Сашка! – Варвара хлопнула калиткой – Небось опять про свои ракеты?
Он вздрогнул, будто пойманный на краже яблок. В голове ещё витали московские трамваи, сверкающие, как новенькие гвозди.
– Мам, я ж говорил – за книгами зайду…
Голос матери потерялся где-то между расчётами тяги двигателя. Сашка мысленно шагал по Тверской, воображая, как стучит каблуками по мраморной лестнице Политехнического музея.
– …а ты слушаешь вообще? – Варвара ткнула его в бок локтем – Сказала, рубашки из сундука достань!
– Хватит языком молоть! – Варвара посмотрела на соседок – Лучше картошку свою переберите, а то опять мышей кормить будете!
Соседки разошлись, ворча. Сашка ухмыльнулся, разглядывая билет до Москвы – жёлтый клочок, пахнущий типографской краской.
– Сашка! Домой! Опоздаете на вокзал!
В избе пахло ржаным хлебом и тревогой. Мать складывала в холщовый мешок:
– Сухари, свёкла маринованная, сало… Возьмёшь?
– Мам, – Сашка закатил глаза, – я же не на фронт.
– На фронте проще, – буркнула Варвара, завязывая узел. – Там хоть котелок дают.
– Смотри, – Варвара сунула ему в руку свёрток, – письма Вале. Не теряй.
Он кивнул, пряча заветные конверты. В них – не слова о трудностях, лишь мольба матери пожалеть себя, тоска и надежда на встречу.
– Маменька, – Варвара повернулась к Елизавете, сидевшей у печи. – Валя пишет, будто в столице даже хлеб по карточкам не выдают. Как она там?
Елизавета, вытирая ладонью запотевшее окно, ответила не сразу:
– Война кончилась, а мы всё боимся. Ты же сама говорила: «Дети должны лететь».
Сашка, ворвался в избу с охапкой дров. Глаза горели, как угли в печи:
– Мам, я уже перебрал книги! Тут и «Теория полёта», и журналы про Циолковского…
– В Москве, говорят, голод, – перебила Варвара, пряча дрожь в голосе. – А ты с мечтами о небе…
– Лучше с мечтами, чем с пустым чревом! – парировал Сашка, ловко уворачиваясь от материнской попытки поправить воротник.
В дверь поскрипел Филимон. Старик, опираясь на палку, замер на пороге, наблюдая, как Варвара сует в узел последний кусок сала.
– Эх, Варварушка, – хрипло рассмеялся он, – всёж не вместишь в один мешок в Москву.
– Дядя Филимон, вы бы лучше ногу берегли, – огрызнулся Сашка, подхватывая тяжёлую корзину.
Филимон прищурился. Его история висела в избе, как старая икона: в 1943-м немцы расстреляли всю его семью. Он выжил чудом – пуля прошла навылет через бедро. Варвара, тогда ещё молодая вдова, нашла его в лесу, перевязала рану тряпьём, а после выхаживала, как ребёнка.
– Помнишь, как ты меня к печи приковала? – Филимон шутливо ткнул палкой в сторону Варвары. – Кричал: «Отпусти!», а ты – «Зашибу!».
– А ты орал, будто тебя режут, – улыбнулась Варвара, вдруг осознав, как этот угрюмый старик стал частью семьи.
Варвара вынесла на крыльцо последний узелок – по старинному обычаю, сесть на дорожку. Сашка, поправляя рваный ремень, взглянул на Елизавету, сидевшую на завалинке. Старуха, вся в морщинах как в линиях судьбы, строго посмотрела на Филимона.
– Благослови, Бабушка, – Сашка поклонился в пояс, как учил отец.
Елизавета вынула из-под платка иконку. Серебро почернело, но лик Николы Угодника ещё угадывался.
– Не Москвой единой, – буркнула она, суя образок в ладонь. – Помни, чьи кости под твоими сапогами.
Варвара, отвернувшись, как метроном, отсчитывала последние минуты.
– Мам… – Сашка обнял её за плечи, вдохнув запах дыма и хлеба.
– Сашенька! – она прижалась, сын был уже на две головы выше, она осознала, как пролетело время.
Сунула ему в руки узел. – Там яйца. В дорогу.
Филимон, сидя на телеге, щёлкал кнутом по воздуху. Лошадь, старая кобыла с вытертой холкой, мотала головой, будто отгоняя слепней.
– Садись, а то опоздаешь на свой поезд! – крикнул он, показывая кривые зубы.
Телега заскрипела по ухабам. Сашка, стиснув зубы, не обернулся. Только сжал в кармане бабкину иконку, пока не впилась в ладонь. Пуговицы давили, но снимать пиджак нельзя! Город требует правильности.
Вон и Анька, выскочившая из-за ивы, стояла в рваном платке, будто не понимала, что времена барынь с чаями на крыльце прошли.
– Проводить хотела… – прошептала она, и он едва удержался от смеха. Проводить? Маленькая девочка 14 лет. Но в ее глазах горело что-то упрямое, словно она и вправду верила, что Сашке нужны ее "Доброго пути".
– Мило, – бросил он, стараясь говорить мягко, как мать учила: «С крестьянами – вежливость, Шереметьевы выше обид». Телега дернулась, брызги грязи легли на ее ботинки. Сашка не обернулся. Город манил огнями, слогами из книг, а не деревенской шепотней про «грубую силу да мужиков».
Филимон хрипло запел: «Эх, дороги… пыль да туман…»
Колёса выбивали ритм: Моск-ва, Моск-ва, Моск-ва…
Телега скрипела по мёрзлой дороге. Сашка, прижав к груди узел с гостинцами, вдруг заговорил, будто прорвало:
– Дядя Филимон, я вчера видел во сне… Летал, как стриж! А тут… – он махнул рукой на бескрайние поля. – Тут даже небо тесное.
Филимон, покуривая самокрутку, хмыкнул:
– Небо, парень, оно везде одно. А вот земля… – он ткнул пальцем в грязь. – Она или кормит, или хоронит. Ты летай, да смотри – не отрывайся от корней.
Сашка замолчал. Где-то там, за горизонтами, дымились трубы Москвы.
На перроне пахло махоркой и страхом. Демобилизованные солдаты в рваных шинелях толкались у теплушек. Женщина в чёрном платке выла, провожая сына в «трудовую армию» на Урал.
Поезд вздрогнул, выплевывая клубы пара. Сашка прижал лоб к холодному стеклу, наблюдая, как перрон начинает плыть. За окном запели: “Москва майская, вся в огнях подсвечников…”. В вагоне Сашка сел рядом с девчонкой в пионерском галстуке, прижамающей к груди клетчатый чемоданчик. Девочка напевала: “Широка страна моя родная…”
– Билетики! – Контролёрша с лицом, как у сушёной воблы, протянула руку. Сашка судорожно полез за пазуху, где рядом с иконкой лежал билет, пропитанный запахом ржаного хлеба.
Когда поезд вполз под стеклянный купол московского вокзала, он не сразу понял, что надо выходить. Толпа подхватила, понесла к выходу, как щепку. На перроне гремел духовой оркестр – “Смуглянку” выводили так бойко, будто хотели заткнуть гудки маневровых тепловозов.
Воздух вонял углём и аммиаком. Сашка, задрав голову, увидел голубя – он кружил под сводами, словно потеряв выход. Вдруг кто-то толкнул в спину:
– Не загораживай, деревенщина!
Он побежал, спотыкаясь о чемоданы. Ботинок, начищенный маминым воском, угодил в лужу с мазутом. Где-то кричали: “Граждане! Не толпиться у третьего пути!” Бабка в платке с каракулевым воротником тыкала зонтом в спину: “Молодой человек, вы мне ногу отдавили!”
Сашка вынырнул к таксофонам. Прислонился к стене, дрожащими пальцами нащупывая в кармане список. Заехать к Вале и расспросить о книжных магазинах – первым пунктом. Где-то рядом грохотали трамваи, звенели шпоры офицеров, пахло свежей типографской краской из киоска “Союзпечати”.
Он вдруг понял, что дышит ртом, как выброшенная на берег рыба. В ушах стоял гул, будто вставили пробки из ваты. Но когда увидел указатель “Метро”, сердце ёкнуло: там, в подземелье, мчались поезда с мозаиками из смальты. Как в журнале “Огонёк”.
– Эй, парень! – Извозчик в фуражке с лакированным козырьком щёлкнул кнутом. – Подбросить? Десять рублей до Арбата!
Сашка покачал головой, сжимая в кулаке мелочь на проезд. Он пойдёт пешком, как отец в сорок первом – от вокзала до Кремля. Только вместо винтовки – узелок с мамкиными гостинцами.
Глава 7. Лаврентьевы. Сватовство Глаши
Степан шёл по деревне, щурясь от солнца. В молодости он был первым парнем на селе – играл на гармошке, девчонки за ним табуном ходили. Но кривая судьбы резко свернула, когда женился на матери Аньки. Та сразу показала характер, да и выпить любил Степан.
Остановился, задумался –
«Война сломала тысячи судеб. Кто-то погиб, кто-то вернулся калекой, а кто-то – вроде целый, а душа изранена. Вот и я…
Раньше думал: вернусь – заживём. А вернулся – и будто не было той жизни. Жена худая, бледная, дети голодные. Хозяйство в упадке, крыша течёт. А я… я живой. Вроде радоваться надо, а не получается.
Первый стакан как лекарство – от боли душевной. Второй – чтоб не думать. Третий – чтоб забыться. А потом уже не остановиться. Замкнутый круг: пью – бью жену, бью – пью ещё больше. Она плачет, я злюсь, а злость глушу водкой.
И ведь был когда-то другим – весёлым, сильным, любимым. Теперь от того человека почти ничего не осталось. Только ночами, когда сон не идёт, вспоминаю, как дочку на руках качал, как жена улыбалась. И понимаю: не война меня сломала – я сам себя ломаю день за днём».
Вспомнил, как мальчишкой мечтал в город уехать, учиться. И вот он здесь, доживает век в избе. А руки помнят – помнят, как деталь к детали ложились, как инструмент пел в ладони.
Теперь его золотые руки ценили все – мог починить что угодно. В эти дни он не пил, держался. В мастерской его встречали с уважением, просили совета. Только дома всё валилось из рук.
Степан остановился у мастерской, вдохнул полной грудью. Сегодня будет работать допоздна. Может, хоть так заслужит уважение жены, увидит гордость в глазах.
В груди что-то шевелится – не боль, не тоска. Надежда, что ли.
«Может, ещё не всё потеряно? Только как теперь подняться – не знаю».
Утро в доме было тихим. Анька проснулась от птичьего гомона за окном. Мать возилась у печи, а отца уже не было – ушёл в мастерскую на заре.
Анька выскочила из дома, прижимая к груди сухарь. Желудок сводило от голода, но на ферме её ждал не только тяжёлый труд, но и немного молока.
Под ногами хлюпала грязь, ветер трепал платок. Ещё немного, ещё чуть-чуть – и она на месте. Там, среди коров, можно забыть про мамины крики и побои.
В животе урчало, но Анька упрямо шагала вперёд. На ферме её ждали – бабы жалели девочку, подкармливали чем могли. А она в благодарность работала за троих: носила сено, чистила стойла, доила коров.
Вот и бугор показался. Ещё немного – и она увидит знакомые ворота, услышит мычание коров. Там, в тепле и уюте фермы, можно хоть на время забыть про голод и боль.
Анька вбежала на ферму, жадно хватая ртом прохладный воздух. Здесь, среди коровьего тепла и запаха сена, было спокойнее, чем дома. Женщины-доярки, заметив её, заулыбались:
– Беги, деточка, помогай.
После войны на ферме строго следили за детьми – не давали надрываться. Но Анька сама рвалась к работе. Пока бабы делили сено, она уже таскала по кормушкам.
Глазка и Бурка встретили её привычно – фыркнули, но признали. Анька ловко проскользнула между коров, ухватила ведро. Руки помнили каждое движение – с семи лет здесь.
– Ты, девка, не перетруждайся, – окликнула её Марфа, старшая доярка.
Но Анька только мотнула головой. Промокший сенаж тянул к земле, но она упрямо несла. К полудню руки гудели, а впереди ещё столько работы… Но здесь, среди коров, она чувствовала себя нужной.
К полудню приехала полевая кухня. Доярки оживились, расставили вёдра. На обед была горячая похлёбка с картошкой и луком, чёрный хлеб и чай с сахаром. Анька едва дождалась своей очереди.
– Ну что, девки, как стадо? – спросила Марфа, разливая похлёбку.
– Глазка сегодня строптивая, – пожаловалась Клавдия.
– А Бурка как? – спросила другая доярка.
– Бурке бы овёс, да где его взять, – вздохнула Марфа. – Анька, ты как?
Анька только кивнула, уплетая похлёбку.
– Глядите-ка, наша Анька улыбается! – засмеялась Соня. – Небось, про жениха своего думает.
Доярки захохотали, а Анька покраснела.
После обеда Анька улеглась на сено. Сон пришёл быстро. Снилось, как идёт она с Сашкой по улице, он держит её за руку, а она не верит своему счастью.
В коровнике пахло свежим сеном и молоком. Доярки сновали между рядами стойл, наполняя корыта водой из большого бака. Марфа, заметив, что Анька крепко спит, тихо шепнула:
– Не будите её, девки. Пусть отдохнёт, вон как мается.
Но через час Марфа всё же разбудила девушку:
– Анька, вставай. Беги в контору, отнеси данные по надою. Варвара Васильевна ждёт.
Анька сонно кивнула и побежала через двор. Контора встретила её теплом и запахом бумаги. За столом сидела Варвара – строгая, но справедливая.
– Здравствуй, Анечка. Что там у нас с надоями?
Анька протянула записи, чувствуя, как теплеет на душе от доброго взгляда Варвары Васильевны. Та внимательно изучила цифры.
Варвара улыбнулась, и в этой улыбке было что-то материнское, тёплое.
– Ты, деточка, не стесняйся. Если помощь нужна – приходи.
Анька вышла из конторы, чувствуя, как в груди разливается тепло. Может, не всё так плохо в её жизни?
Солнце клонилось к закату, бросая длинные тени на пыльную дорогу. Анька поспешила домой, прижимая к груди передник. В животе урчало – после обеда на ферме прошло уже много времени.
У калитки она остановилась, переводя дух. Мать сегодня была особенно злая – Фрол должен прийти свататься к Глашке. Анька помнила его – неопрятного мужика с вечно грязной рубахой и нечёсаной бородой.
Позавчера Глашка пришла с синяком под глазом, молча разделась и улезла под одеяло. Анька спрашивала, но сестра только всхлипывала в ответ. Теперь ей предстоит выйти замуж за такого же, как их отец, – грубого, пьющего, не знающего ласки.
Анька сравнивала судьбу матери с судьбой сестры. Видела, как мать гнётся под тяжестью обид. Но Глашка уже сломлена, а в Аньке ещё теплится надежда на что-то другое. На что-то светлое, как те сны про Сашку.
В доме уже суетились – накрывали на стол, готовили угощение. Анька знала: сегодня вечером всё решится. И, может быть, завтра Глашка станет женой Фрола. Анька вошла в дом, отгоняя мысли, что ждёт её сестру.