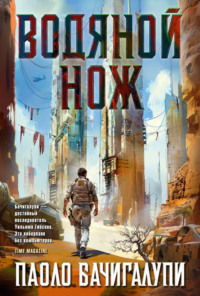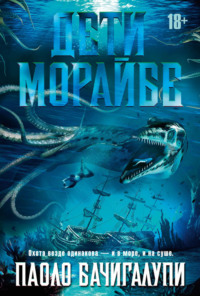Полная версия
Навола
– Най. – Я покачал головой. – Я не такой. Он нечто совсем иное. Словно отпрыск Леггуса и Скуро. Сплошные дела и хитрые мысли. Теперь Балкоси приносят нам доход, хотя прежде пытались нас уничтожить. Они делают наши рудники продуктивными. Но они нам не друзья, и я по-прежнему не понимаю.
Мерио снова рассмеялся.
– Сфай![26] Вы наволанец. Умение понимать извилистые пути у вас в крови. – И добавил более серьезно: – Однако от работы никуда не денешься. Если хотите, чтобы ваш ум был гибким и проворным, нужно его тренировать. А потому – за учебу. По какой причине мы не принимаем золото Шеру?
– А что насчет вас? Разве ваш ум не должен тоже быть гибким и проворным?
– Мой? – рассмеялся Мерио. – Я из Парди. – Он похлопал себя по мягкому животу. – Люди из Парди хорошо питаются, но мы не строим козни и планы. Нам достаточно видеть, как набирают жир наши свиньи, и как наши белорогие коровы наполняют вымя добрым молоком, и как созревают наши сыры. Мы фермеры. Наша отличительная черта состоит в том, что мы верим. – Он на мгновение задумался. – Кроме того, мы оптимисты. Фермер должен быть оптимистом. Мы верим, что солнце будет светить, а дожди проливаться. Верим, что наши жены вернутся ночью к нам в постель, даже если мы весь день пили вино. Вот что умеют люди из Парди. Мы умеем верить, умеем пить и очень хорошо умеем есть. Не столь хороши в постели, но великолепны за столом.
– Но вы не фермер. И у вас нет жены.
Он пошевелил густыми бровями:
– Однако я отлично сервирую стол.
– Вы знаете, о чем я.
– Что ж, пардийцы так же хорошо умеют вести подсчеты. В этом нам доверяют.
– А теперь вы просто придумываете.
– Вовсе нет! Мой отец был фермером. Но я был шестым сыном. И потому, – он пожал плечами, – когда живший по соседству нумерари захотел взять меня в подмастерья, отец сделал из меня нумерари. – Он взъерошил мне волосы и ущипнул за ухо. – Однако нумерари – неподходящая работа для вас, изворотливых наволанцев. Наволанцы слишком умны для этого. – Он снова ущипнул меня. – Изворотливые, изворотливые, изворотливые! Им нельзя доверить подсчеты. Не успеешь оглянуться, как наволанец украдет твое дело, твою жену, твоих дочерей, а то и твои панталоны!
Я оттолкнул его руку, пока он не успел снова ущипнуть, и сказал:
– Думаю, мне следовало родиться в Парди. Я совсем не изворотливый.
– Сфай, – ответил он, вновь становясь серьезным. – Вы ди Регулаи, и вы да Навола. Извилистые пути – ваш дом и ваше убежище. Ваш ум остер, как скрытые кинжалы Каззетты. Это ваше право по рождению, не забывайте. Ваш ум должен быть острым, как клинок, неуловимым, как рыба в воде, и проворным, как лисица. Потому что таковы наволанцы. Это в вашей крови. Помните, что вас вскормил сам Скуро. Это ваше право по рождению.
Но я так не думал.
Мой отец знал цену пшеницы в Тлиби и стоимость нефрита в Кречии. Он знал, сколько брусков пардаго зреет в огромных холодильных домах Парди. Знал долю золота в монетах Торре-Амо, Шеру, Мераи и Ваза. Знал, сколько рулонов шелка и степных лошадей в караване, который отправился в Капову шесть месяцев назад и проведет в пути еще три месяца. Знал о планирующихся переворотах в Мераи и также знал, что предоставит кредит парлу, чтобы справиться с ними.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Торговый банк. Здесь и далее приводится не точный перевод, а смысл термина, поскольку в тексте автор использует искаженные итальянский и латинский языки.(Примеч. перев.)
2
Торговцы.
3
Писец.
4
Бухгалтер.
5
Счетоводы.
6
Обеспечительный платеж.
7
Долговое обязательство; банкротство; обычай Банка Регулаи; аудитор Наволы; текущий валютный курс; как установлено Вазом.
8
Вся работа принадлежит писцам, вся работа принадлежит бухгалтерам.
9
Аккредитив.
10
Букв.: скрытое лицо.
11
Конец.
12
Парадный двор.
13
Древнее благородное семейство.
14
Военный отряд волка.
15
Кинжальщик.
16
Фея.
17
Победитель.
18
Нотариусы.
19
Старый амонский.
20
Люди.
21
Нотариальное дело.
22
Не правда ли?
23
Неужели.
24
Замок.
25
Будь оно проклято.
26
Проклятье!