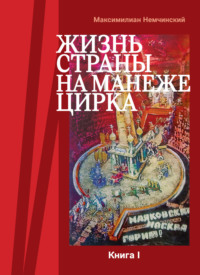Полная версия
Невероятный советский цирк. Краткий обзор стремлений мастеров манежа поставить свое искусство на воспитание нового общества
Зарубежные директора контрактовали, разумеется, лучших. Уехали на гастроли эквилибристы на проволоке Розетти, воздушный полет Жоржа Руденко, труппа Алибека Кантемирова, эквилибристы Мильва, наездники братья Соболевские, кавказские джигиты Хундадзе, знаменитые музыкальные эксцентрики Бим-Бом. Получил приглашение от лондонского Olympia Circus и дрессировщик лошадей Вильямс Труцци.
Смелым трюкам во все времена старались найти самое неожиданное обрамление. Через историю цирков всех народов проходит эта тяга к сверхординарному. Своеобразное преображение претерпела она в годы становления советского циркового искусства.
Любопытные наблюдения позволяют сделать уже конные постановки Труцци. Верный традициям, впитанным с детства, он, возглавив художественную жизнь цирков, продолжал искать экзотику не только в глубине веков, но и вдали от страны, где родился и работал. Для русского зрителя, измученного годами Мировой и Гражданской войн, Труцци выдумывал экзотический мир, подчиняющийся невообразимым традициям романтического, давно ушедшего времени. Мир, в котором мечта и воля позволяют осуществить самые дерзновенные мечты. Великолепные лошади, прекрасные женщины, благородные рыцари, завораживающие ритуалы – он создавал в еще недавно нетопленном зале мир волшебства и фантазии. Яркое декоративное оформление не исчерпывало, а лишь подкрепляло определенные достижения трюковой работы.
Только появившись в Москве, Труцци поставил, привлекши кроме собственных берейторов артистов цирка и танцовщиц, конно-балетный ориентальный спектакль «Ночь волшебника Аладдина». Сюжета как такового это зрелище не имело. В нем чередовались танцы балерин, одетых одалисками, с танцами укрытых яркими попонами лошадей, а фигурная езда всадников-воинов – с акробатическими поддержками юного шейха (в этой роли выступал сам Труцци) и его возлюбленной. Методологически номер объединял дрессуру на свободе, групповую школьную езду и па-де-де. Достоинство композиции заключалось не в механическом чередовании этих столь различных жанров, а в переплетении их элементов. Они объединялись, с одной стороны, за счет актерски оправданных взаимоотношений исполнителей между собой и с животными, с другой же – благодаря декоративному мотиву, единому для решения манежного оформления, гарнировки лошадей и красочных костюмов.
Верхом творческих достижений Труцци-дрессировщика в первой половине 1920-х гг. следует признать его композицию «Ковбой в Техасе».
«Дрессфантазией» окрестили ее пришедшие в восторг рецензенты. Сам артист, вскрывая образное существо номера, проставил на афише: «Табун лошадей». По трюкам он восходил к дрессуре на свободе, осложненной тем, что дрессировщик управлял животными, сидя в седле. Одновременное появление 32 лошадей – само по себе зрелище впечатляющее. Если они вышколены и работают синхронно – вдвойне. Но Труцци удалось большее: он сумел продуманной композицией трюковой работы создать эмоциональную картину укрощения коней с угадываемым сюжетом.
Он был убежден, что тема номера, предложенного зрителю, должна возбуждать его жгучий интерес, а значит, быть достаточно далекой от круга его привычных знаний и опыта. По этому одновременно с известием о приглашении Труцци на длительные заграничные гастроли в печати появились сообщения о переделке «Ковбоя» в «кавказский номер с джигитовкой и акробатическими трюками на коне». Подобная предлагаемая зарубежному зрителю «русификация» толковалась и воплощалась дрессировщиком чрезвычайно свободно и широко.
Он считал, что заграницу в равной степени увлечет и кавказская тема, и соколиная окота времен Ивана Грозного, и приметы недавней Октябрьской революции.
Начав гастроли в Лондоне, Труцци потребовал, чтобы афиши, несмотря на итальянские национальность и фамилию, представляли его «русским артистом», и показывал «Соколиную охоту времен Иоанна Грозного». Но вместе с тем в высшей школе верховой езды Труцци выезжал, зная о напряженных отношениях Англии и Советской России, в образе Буденовца – красная кавалерийская шинель до пят и богатырка (позже ее назовут буденовкой) с пятиконечной звездой.
Этот явный политический акцент становился еще определеннее, когда на финальной конной эволюции выключались фонари и костюм краснозвездного краскома, так же как арнировка и бинты на бабках лошади, вспыхивал алым фосфоресцирующим цветом (прием, эффектный и по сей день, тогда был постановочной новинкой в цирке), а в форганге, от купола до манежа, разворачивалось светящиеся панно со Спасской башней Кремля и струящейся водой Москвы-реки.
Та к в качестве экзотического зрелища для заграницы возникла первая, пожалуй, удачная попытка (не в клоунаде) отразить на цирковом манеже советскую тему.
Точно так же отстаивала честь своей страны на гастролях по Германии труппа осетинских джигитов Алибека Кантемирова. Темповая работа наездников, акробатические пирамиды, выстраиваемые на мчащейся вдоль барьера арбе, огненные танцы под гармонику, на которой по национальной традиции играла женщина, не давали опомниться. И в завершении этой безудержной круговерти на воткнутом в арбу флагштоке разворачивался красный вымпел. Этнографический номер неожиданно оборачивался пропагандой Страны Советов, завоевывающей международное признание.
Как ни мало отражали действительность в начале 1920-х гг. провозглашаемые руководителями ЦУГЦ заверения, что государственные цирки стали пропагандистами физкультуры, молодому зрителю хотелось верить в это. Нигде, кроме цирка, нельзя было в те времена увидеть столько разнообразных и сложных акробатических и гимнастических трюков. Именно артистические выходы на манеж украшали наивно категоричные кумачовые лозунги: «Развитой, ловкий циркач является идеалом здорового человека».
На такой призыв трудно было не откликнуться. Не только увлеченной спортом молодежи, но и многим пользующимся известностью и обладающим общественным весом теоретикам цирк представлялся искусством будущего. Но главное, молодые люди, большинству из которых по возрасту не довелось сражаться за будущее Страны Советов, желали строить в цирке ее новое искусство.
Та к появились на манеже дрессировщик Николай Гладильщиков, акробат Александр Ширай, гимнаст Михаил Эльворти (Подчерников), эквилибрист Петр Маяцкий, акробат Николай Хибин, меткий стрелок Александр Александров (Федотов), акробат Евгений Милаев, акробаты братья Александр и Владимир Макеевы, гимнасты Александр Буслаев и Ирина Бугримова, акробат Николай Свирин…
Перечень циркового пополнения из спорта «первого призыва» можно было бы продолжать. Оно оказало воздействие на формирование особого – советского – стиля исполнения, который позволяет и сегодня говорить о ярком своеобразии отечественного цирка, его отличии – и отличии существенном – от мирового.
Тогда, в начале 1920-х гг., впервые за всю цирковую историю на манеже появилось одновременно такое количество людей пришлых, взрослых, с натренированными уже спортивными навыками, со сформировавшимся вкусом, даже с профессиональным именем. До этого цирк традиционно пополнял ряды своих артистов за счет их детей и учеников, в самом юном возрасте принимаемых в труппу (одновременно и в семью – для домашних услуг руководителю номера). И в том и в другом случае будущего артиста натаскивали на исполнение трюков, обучали строго такой манере поведения, которой владел хозяин номера. Необходимость приобщить к традиционному цирковому мастерству юношей и девушек, в достаточной мере сформировавшихся на стороне, в спорте, вынудила учителей пойти на определенные уступки, отказаться от незыблемых традиций. Впрочем, приноравливаться к новым условиям в первую очередь пришлось ученикам. Многих удалось сломить, наиболее одаренные отстояли свою спортивную выучку.
Разумеется, воспитанникам спорта было что перенять от цирковых мастеров.
«Никогда никто, кроме непосредственных практиков цирка, не поймет по-настоящему, как трудно создать самый, казалось бы, легкий номер, – свидетельствовал А. Ширай. – Сужу по себе: вплоть до перехода на цирковую арену я был разносторонним спортсменом с большими показателями. Я был одним из лучших гимнастов страны на аппаратах, квалифицированным легкоатлетом, чемпионом Республики по тяжелой атлетике, неплохим борцом, наконец, конькобежцем. У меня были идеальный организм, отличное дыхание, здоровое сердце – и все же, когда я окунулся в область цирковой тренировки, преследующей не улучшение организма, но достижение рекордного трюка и не знающей никаких норм ни в смысле времени, ни в отношении затрачиваемой энергии, – я почувствовал, что придется напрячь всю волю, чтобы не очутиться в задних рядах цирковых работников»[32]. Мало того, начинающие артисты очень быстро убеждались, что безукоризненно исполнять трюк и восхищать своей работой зрителей цирка – далеко не одно и то же. Только силы и ловкости для этого было недостаточно. Требовались врожденное обаяние или же тщательная актерская выучка.
Признавая необходимость познания профессиональных секретов цирка, воспитанники спорта старались переосмыслить их, соотнести со строгим, но свободным духом занятий по физической культуре. Далекие от нарочитого ажиотажа, они представлялись наиболее полно отвечающими той роли пропагандистов спорта, которую, считалось, призван нести цирк, и советский цирк в особенности. Однако первое пополнение из спорта почитало в мастерстве манежа большое искусство, поэтому всячески старалось способствовать развитию его зрелищной стороны.
Эту по сути своей верную мысль понимали настолько неоднозначно, что добивались результатов, попросту полярных друг другу. Те м не менее все эти пики художественного, постановочного осмысления циркового номера как своеобразного произведения искусства настолько показательны, что требуют особого внимания к себе.
Художественные достижения на манеже того времени предопределили дальнейшие пути развития советской постановочной культуры. Некоторые полемически заостренные приемы тех лет в решении образной и композиционной стороны номеров представляются сегодня наивными. Но, отмечая это, следует с большим вниманием отнестись к изучению родословной целого ряда трюковых, структурных, а также постановочных моментов, определяющих и сегодня советский исполнительский стиль на манеже.
Начало цирковой профессии Николая Гладильщикова было прямым продолжением его спортивного мастерства. Он не оставил борьбу и обучение ей. Только партнером его стал медведь. Гладильщиков сражался, как положено бывшему инструктору Всевобуча, со строгим соблюдением всех приемов французской борьбы. От него не отставал и медведь.
Когда они сходились, зверь обхватывал соперника одной лапой за шею, другой – за поясницу. Та к же всерьез, с применением эффектных захватов поединок развивался и в партере, и на ковре, где борющиеся продолжали сражаться после удачной подсечки, проведенной медведем. Гладильщикову достался на редкость крупный зверь. Это усиливало зрелищность схватки, но все же одновременно и увеличивало ее сложность. По сценарию победа, разумеется, должна была достаться человеку. Но медведь в потасовке входил в раж, и укротителю приходилось всякий раз прикладывать недюжинную силу, чтобы положить зверя на лопатки, распластав по сторонам его передние лапы. Те м явственней было видно, что оба – и зверь, и человек – выступали на равных.
Для своего времени (а Гладильщиков вынес борьбу с медведем на публику в 1923 г.) это было не просто художественно-постановочным новшеством, но прежде всего открытием эстетического характера. Принципиальным нововведением стал и внешний облик артиста. Не традиционные гусарские рейтузы и венгерку, расшитую позументами, избрал Гладильщиков, не ковбойский костюм или вошедшую в цирковую моду форму морского капитана, а старинную русскую одежду. Штаны, заправленные в сапоги, подпоясанная крученым шнуром рубаха навыпуск да поддевка, сочетаясь с могучей фигурой артиста, с его стриженными «в скобку» волосами, с уверенными, неторопливыми движениями, помогали создать облик доброго молодца, сказочного русского богатыря. В этом же образе Гладильщиков вошел в клетку, когда, четыре года спустя, создал смешанную группу хищников.
Укрупняя свой номер до аттракциона, артист также избрал непроторенный путь. Соединить представителей различных пород и разных полов в один номер, как известно, значительно труднее, чем работать с одним. И тем не менее он добился одновременной работы в манежной клетке льва, львицы, двух бурых медведей, волка, двух догов и бульдога.
Гладильщиков вошел в историю и как первый советский укротитель, и как первый создатель на государственном манеже смешанной группы хищников. Первым из русских и советских укротителей он отказался от так называемой жесткой дрессуры с применением длинных бичей, пылающих факелов, оглушительно стреляющих револьверов.
Соединение сложности трюка ввиду его рискованности с наибольшей зрелищностью подачи определяло исполнительский стиль укротителя. Он не чурался, улегшись навзничь, кормить львицу мясом, которое положил себе на грудь (а позже – класть голову в пасть льва), и заботился о создании определенных взаимоотношений между всеми участниками номера, ориентируясь и на родовые способности животных, и на их индивидуальный характер. Не увлекшись ни разу сюжетным ходом, Гладильщиков увлеченно варьировал тематические возможности дрессуры. Фольклорное русское начало оставалось доминирующим на протяжении 40 лет его цирковой деятельности.
Молодой одесский спортсмен Михаил Подчерников прошел цирковую выучку у турниста Михаила Ольтенса и у создателя первого отечественного батута Эвальда Мюльберга, в то время руководителя известного воздушного полета Эльворти. Под этим же псевдонимом (позже ставшим его фамилией) молодой артист довольно скоро организовал собственный полет, о качестве которого достаточно убедительно свидетельствует факт его контрактирования ГУЦ и приглашения в тот же сезон в Москву. Высокий класс работы молодых гимнастов подтверждает полученное впоследствии от Труцци предложение подготовить на основе номера перекрестный полет.
Соединенные крест-накрест две самостоятельные аппаратуры одинарного и так называемого классического полета предоставляли возможность качественно новой работы в воздухе. Возможность перекрестного перемещения гимнастов позволяла создать непрерывно сменяющие одна другую и даже одновременные трюковые комбинации. В 1920-е гг. трудно было представить воздушное зрелище более феерическое.
Трюки, значительные сами по себе, выигрывали от непрерывного чередования, настолько быстрого, что зрители, не успевая досмотреть один, вынуждены были переключать внимание на другой и, следя за ним, упускали начало третьего. Комбинации у Кремо (тогда в цирке было принято, меняя номер, сменять и псевдоним), как и положено в перекрестном полете, строились таким образом, что в момент прихода первого вольтижера в руки ловитора второй перелетал с одной боковой трапеции на другую и тотчас же первый вольтижер, проделав широкую дугу вместе с ловитором, возвращался на свою трапецию. В этой очередности заднее сальто-мортале с полупируэтом в руки ловитора сменял пируэт с живота при перелете с одной трапеции на другую и оборотное сальто-мортале от ловитора, полтора сальто-мортале в ноги – сальто-мортале с трапеции на трапецию, а затем возврат полупируэтом с ног. После шести все более усложняющихся комбинаций сам Эльворти без сопровождения боковых вольтижеров крутил двойное сальто-мортале в руки ловитора.
Зарубежные гастролеры настолько приучили всех к обязательному присутствию в любом номере эксцентрика, что не решились отказаться от него и Кремо. Но у них черный костюм и вздыбленные волосы оставались единственной данью этому обязательному, казалось, персонажу. Андрей Снозе летал с «чистым лицом», без клоунского грима и какого бы то ни было комикования. Бьющая ключом энергия, несколько преувеличенная жизнерадостность определяли характер его работы. Эта же жизнерадостность и спортивная подтянутость всех остальных гимнастов задавали высокий темп полету (значительный по трюковому репертуару, он шел не больше 15 минут). Это был результат, в котором проявились тщательно отрепетированные четкость и точность.
Летали, используя магнезию, но научились брать ее так осторожно, что не просыпали и грана. Возвращаясь после исполнения трюка, высоко взмывали над мостиком и только тогда легко спрыгивали на него. Все, словом, делалось для создания номера цельного и гармоничного. Дух безукоризненной спортивности господствовал в полете, завоевывая сторонников среди артистов, поклонников – среди зрителей.
Цирк, значительно улучшивший за прошедшие сезоны техническую сторону номеров, продолжал – и справедливо – вызывать нарекания за форму их показа, за содержание, далекое от советской действительности, а иногда и чуждое ей. Номера, упомянутые выше, были наперечет. И Главполитпросвет, и ЦК РАБИС – каждый по своим каналам – постоянно призывали руководство Циркотреста, утверждая свои позиции, повернуть подвластное ему производство лицом к действительности.
Страна готовилась отметить 10-й юбилей республики. Государственным циркам, следовательно, предстояло продемонстрировать не только свою финансовую рентабельность, но и качественно новое, советское содержание. А. Данкману, уже в качестве управляющего госцирками[33], необходимо было оправдать оказанное Наркомпросом доверие. Он еще раз убедительно сформулировал: «Следующая задача в области цирка – усиление советизации программ и создание нового советского артиста. Первый вопрос разрешается путем изучения запросов зрителя циркового представления: записи реакции на отдельные номера, анкетирования и т. д. Таким образом, становится возможным внесение поправок в работу цирков в сторону советизации цирка, через разговорный жанр, пантомиму и увязку отдельных разрозненных номеров в единое цирковое зрелище. Второй вопрос разрешается созданием мастерской циркового искусства»[34].
Действительно, прямым следствием этих требований явилось наконец решение о создании в том же 1927 г. Школы циркового искусства, имеющей в своей структуре две группы: акробатики, а также сатиры и клоунады. Упорным инициатором этой акции был Н. Фореггер. Он же разработал «Проект положения о Школе циркового искусства при ЦУГЦ». Цель школы была обозначена четко и точно: «Подготовить смену работникам цирка, сведущую в своем ремесле и могущую либо входить в уже законченные номера, либо оформлять свои номера, новые и отражающие лицо современного советского цирка».
Сам факт планового воспитания артистов цирка, организованного впервые за всю его историю, имел самый широкий и заслуженный общественный резонанс.
Опубликованный учебный план первого года работы подтвердил, что ставка делалась на воспитание «в противовес тенденции западноевропейских цирков, циркача-артиста, а не спецремесленника»[35].
Учащимся основной, акробатической группы (57 человек из 65 принятых) полагалось за неделю посвящать занятиям верховой ездой и партерной акробатикой по 6 часов, акробатикой на снарядах и жонглированием – по 3 часа, также по 3 часа отводилось музыке, пению и работе над скетчами старого цирка, классическому экзерсису и постановке голоса – по 4. Не были забыты история цирка и обществоведение, для них предусматривалось по 2 часа в неделю. Для осуществления этого плана прежде всего нужны были педагоги и помещения для занятий (общежития не было и не предполагалось).
К октябрю 1927 г., когда школа начала функционировать, получив название «Курсы циркового искусства» (КЦИ), ни одна из этих проблем фактически не была решена.
А. А. Луначарская, назначенная заведующей курсами, отличалась добротой и отзывчивостью. Когда-то она начинала как педагог, но не имела опыта ни административной работы, ни цирковой, хотя с октября 1926 г. являлась ответственным редактором журнала «Цирк». Пользуясь личными связями, Луначарская пыталась хоть как-то наладить учебный процесс и быт. Но существенных изменений так и не произошло.
На первых порах для занятий пришлось довольствоваться в свободное от представлений время курительной комнатой Первого госцирка. Только к третьему курсу, в 1929 г., бывший борец и силовой жонглер О. Г. Линдер, ставший четвертым заведующим школой, сумел заполучить в пользование курсов здание бывших расторгуевских конюшен с собственным манежем. Были сравнительно легко найдены учителя по общеобразовательным предметам, руководитель класса производственного танца и ритмики (им стала балерина Большого театра М. С. Воронько), преподавателями мастерства актера в помощь Фореггеру пригласили театральных артистов Д. Л. Кара-Дмитриева (из Театра сатиры) и М. С. Местечкина (с эстрады), а обучение непосредственно цирковым жанрам постоянно наталкивалось на различные трудности. Приглашенный педагогом в класс акробатики спортсмен-любитель С. П. Сергеев владел в основном начальным курсом. Хотя КЦИ и было предоставлено право набирать преподавателей из числа наиболее высококвалифицированных артистов, гастролирующих в программах Первого госцирка и Мюзик-Холла, согласие к началу учебного года удалось получить только от Витторио Феррони. Прекрасный жонглер, он очень недолго передавал свой опыт молодежи, так как, продолжая выступления, вскоре уехал из Москвы. Вся практическая работа по обучению азам циркового мастерства сосредоточилась в руках Наполеона Фабри (А. Ф. Пюбасета), обрусевшего француза, наездника-сальтоморталиста и клоуна, давно оставившего манеж из-за производственной травмы. Артист старой закалки, он и курсантов КЦИ начал воспитывать так, как учили некогда его самого. Фабри с первого дня, не обращая никакого внимания на физическую, а тем более психологическую неподготовленность молодежи, начал «лепить» из нее номера.
Иной чрезмерностью страдало преподавание в классе клоунады. Курсантов обучали азам актерского искусства, заставляя разыгрывать этюды, приучая к пародии, знакомя с наиболее распространенными лацци commedia dell’arte. Но при этом педагоги не ощущали специфики обучения, не готовили курсантов к созданию законченной репризы или антре. Фактически из молодежи готовили театральных актеров, разумеется нового, эксцентрического типа. Но и в этой работе не присутствовало никакого единого метода. Все педагоги, как приверженцы весьма несхожих актерских школ (от патриархально-традиционной до мейерхольдовской биомеханики), вносили изрядную сумятицу в понимание их воспитанниками технологии актерской профессии. Впрочем, весной, как только было принято решение о летней практике, учащиеся – очевидно, не без благословения преподавателей – занялись, не вспоминая об учебных экспериментах, усердным копированием репертуара клоунов, выступавших в программах Первого госцирка и Мюзик-Холла. При всем стремлении стать современными будущие клоуны понимали, что прежде всего им необходимо быть смешными и доходчивыми. Новых путей для этого они не знали и не видели, поэтому шли по проторенным, но наверняка беспроигрышным. Костюмы и особенно тщательно размалеванные физиономии будущих клоунов являли собой настоящий каталог традиционных клоунских масок. Таким же собранием старинных буффонад стал и их репертуар.
Естественно, за образец для подражания брались наиболее эффектные выступления на манеже Первого госцирка и сцене Мюзик-Холла, где почти все учащиеся по вечерам подрабатывали в униформе. Старательно перенимались не только трюки, их чередование, но и игровая композиция номеров, те образы, в которых номера исполняли профессионалы. А так как в сезоны 1927 / 28 и 1928 / 29 гг. среди приглашаемых в Москву цирковых артистов продолжали преобладать иностранцы, то тиражировались по преимуществу их номера. Выступая вдалеке от зрителей, знакомых с цирком, учащиеся бестрепетно пользовались звонкими псевдонимами, выдавали себя за иностранцев, что, в свою очередь, поднимало в глазах непосвященных ценность номеров.
Полностью отдавшись магии цирка, молодые ребята и девчата, несмотря на безупречное социальное происхождение, – а ему в те годы придавали самое серьезное значение – все, за малым исключением, обзавелись звучными, под стать своим «иностранным» номерам, «иностранными» псевдонимами: Гренадо, Флорено, Девис, Клодо, Райт и так далее.
Приближался 1928 год. Год, в который решено было отметить 10-летие государственных цирков[36].
Требовалось, значит, снова убедительно доказать (и показать на манеже), каких успехов удалось достичь за прошедшие годы.
Это опытных управленцев не пугало. Отчитываться в различных инстанциях приходилось регулярно. Подобранные факты говорили сами за себя. Результаты были очевидны, о чем и докладывали: «От двух московских цирков 1918 г. – к сети цирков РСФСР и УССР 1928 г., к пятилетнему перспективному плану развития циркового дела и капитального строительства новых цирковых зданий, разработанному в 1927 году, – таков путь экономически-организационного развития государственных цирков»[37].
Действительно, трест, собравший их вместе, стал едва ли не самым большим цирковым предприятием в мире. Но требования немедленного формирования, или – по принятой в те годы формулировке – реконструкции, советского циркового искусства настойчиво продолжались.