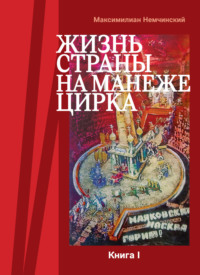Полная версия
Невероятный советский цирк. Краткий обзор стремлений мастеров манежа поставить свое искусство на воспитание нового общества
Стоя на такой позиции, Мейерхольд предложил все цирки превратить в дома физической культуры, использовать как площадки для показательной работы Всевобуча.
Бесконечные совещания и согласования проблем с Нарком-просом, Главполитпросветом и вновь организованной Коллегией по театрализации допризывной физической культуры, проходившие с марта по сентябрь 1921 г., как и решение о передачи зданий цирка, остановила только перемена экономической политики страны.
Разгар новой экономической политики (НЭПа) резко поменял публику циркового зала. Теперь в первых рядах сидели «советские купцы». Впрочем, остальные места до галерки включительно по-прежнему занимали молодые рабочие и вузовцы, трудовая интеллигенция, красноармейцы, пришедшие отдохнуть пролетарии. Люди, верящие в победу справедливости, жадные до зрелищ, до нового.
Стремясь уберечь цирк от чрезмерной энергии «варягов», пытающихся рьяно перестроить цирк и изнутри, и снаружи, нарком Луначарский затребовал в Москву известного артиста и дрессировщика Вильямса Труцци.
Единственный из своей многочисленной семьи отказавшийся покинуть родину (он родился в Полтаве) во время панического бегства из Крыма, артист сумел возродить потерянную в годы Гражданской войны конюшню дрессированных лошадей и собрать в Севастополе труппу для вновь им созданного «Народного цирка». Вильямсу Жижеттовичу был предложен не только контракт с государственными цирками, но и пост их художественного руководителя.
Собственно, только появление Труцци с его труппой и конюшней позволило открыть третий сезон.
Вызванная НЭПом реорганизация аппарата Наркомпроса привела к отчуждению от ТЕО Главполитпросвета Подотдела цирка как самостоятельного Центрального управления государственными цирками (ЦУГЦ). Его руководящее ядро осталось тем же. Председателем правления была утверждена Н. С. Рукавишникова, ее заместителем – А. М. Данкман, членами – В. Ж. Труцци и Ф. Р. Дарле[24].
Выборные от цирковых артистов были фактически отстранены от всех творческих, а тем более организационно-финансовых вопросов. Всеми делами цирка распоряжалась «трехглавая гидра» – так цирковые артисты окрестили триумвират, взявший национализированный цирк в свои руки. В бумагах Л. Танти сохранилась карикатура В. Л. Дурова, изобразившего именно так Рукавишникову, Данкмана и Дарлея. Подобного мнения придерживались и друзья артистов. Один из них, В. Шершеневич, поэт, охотно помогавший с репертуаром друзьям-клоунам, опубликовал даже статью, озаглавленную «Необходимо вмешательство». Он жестко осудил мероприятия Управления, приведшие к тому, что «цирк все падал и падал… Но тут удачно подвернулся нэп… Цирк стали вдруг рассматривать не как художественное предприятие, а исключительно как прибыльное. Гони монету – вот надпись на фронтоне госцирков»[25].
Артисты цирка как могли отстаивали право циркового искусства на существование, стучась во все возможные кабинеты и поднимая этот вопрос на совещаниях. Сражаясь за свое дело, они быстро поняли, что необходимо наглядно, то есть на манеже, продемонстрировать, что цирк способен не только поражать и веселить, но и стать пропагандистом и агитатором, помочь воспитать зрителя-гражданина. К этому времени они окончательно убедились, что следует, оставив заботу об обновлении циркового представления, сосредоточиться исключительно на собственных номерах.
Решительно перевернули привычные выступления музыкальных эксцентриков братья Танти, заслужившие лестное прозвище «хохотуны народного сегодня». От разрозненного исполнения чисто инструментальных фрагментов, игровых реприз и куплетов, день ото дня становящихся все более публицистическими и злободневными, братья перешли к показу большого музыкального скетча. Они сократили количество музыкальных инструментов. Вместо традиционных клоунских дров, сковород, двуручной пилы они оставили старинную гитару в два грифа (у Константина), укороченный корнет-а-пистон и маленький барабан (у Леона). Теперь артисты не пародировали исполнителей популярных произведений, а аккомпанировали тем романсам, песням и куплетам, которые пели, выстраивая своеобразный вокальный диалог. Текст они находили в сатирических журналах и приспосабливали к нуждам манежа. Позже стали заказывать у авторов, пишущих для эстрадных исполнителей.
Так Танти познакомились с разносторонне одаренным поэтом и драматургом Николаем Адуевым. Заказанная ему музыкальная эксцентриада «Генуэзская конференция» принесла Танти в этот период наибольшую популярность. Они рассказывали историю этого совещания на языке своего жанра.
Возле форганга устанавливался длинный стол, за которым располагались все участники конференции (гротесково загримированные униформисты), узнаваемые по публиковавшимся в газетах шаржам. Председательствующий – это был К. Танти в гриме французского дипломата Ж. Барту – предоставлял слово выступающим. А их всех изображал Л. Танти. Меняя костюмы и трансформирующие лицо накладные детали (усы, эспаньолка, монокль и т. д.), он появлялся в самых неожиданных местах (в оркестре, на галерке, в ложах, располагавшихся тогда за первыми тремя рядами партера, на барьере). Ссылаясь на то, что с Россией необходимо найти общий язык, председательствующий предлагал всем выступать на «русские мотивы».
Несоответствие исполняемого текста и популярных мелодий создавало дополнительный комический эффект. В завершение скетча Леон, появившись в кожанке и с «чичеринскими» усами и бородкой, исполнял «речь» главы советской делегации и наркома по иностранным делам не под солирующий инструмент, как предыдущие, а под звучание всего оркестра, играющего любимый марш революционной России «Смело, товарищи, в ногу!».
«…В 1-м Государственном цирке намечается желание подойти вплотную к современной жизни. Первый шаг в этом направлении, несомненно, принадлежит талантливым братьям Танти, – почти тут же отреагировала „Правда“. – Этот номер показал, что арена может служить не только утробному смеху, глупым пощечинам и архаической коннице, но арена может стать политическим воспитанием народных масс. Только в этом направлении цирк завоюет симпатии зрителя-гражданина»[26].
Это был давно ожидаемый и мгновенный – по цирковым меркам – отклик на важнейшее для государства событие[27].
Потребность говорить на одном языке со зрителем, вести их за собой ощущал и Виталий Лазаренко.
В начале своей карьеры он добился известности как выдающийся прыгун (через солдат с примкнутыми штыками, экипажи, даже через слонов). Однако артист довольно скоро, по примеру клоуна Павла Брыкина, соединил прыжки с текстом.
Когда Виталий Ефимович только начинал произносить текст с манежа, он сам сочинял необходимые четверостишья и монологи. Ведь новости должны быть всегда злободневны. Он издавна ощущал потребность в профессиональной литературной помощи. В начале 1920-х гг. для Лазаренко писали В. Маяковский, В. Шершеневич, Н. Адуев, А. Арго. Писали и другие. Но метод работы с ними оставался одним и тем же. «Он обращался к литератору, как к акушерке»[28], – с присущей ему афористичностью вспоминал Арго. Клоун был требователен к своим авторам не потому, что платил им из собственного кармана. Он являлся и ощущал себя не только исполнителем, но и режиссером всего, что делал на манеже. И добился со временем того, что его станут называть «живой советской злободневной газетой», «цирковым рабкрином» и даже «совестью народной».
Это было признанием права цирка агитировать за новые идеалы не только демонстрацией физического совершенства человеческого тела, но и остроумным, метким словом.
В кругу сопредельных искусств цирк наиболее полно отвечал задаче самого прямого, активного и непосредственного воздействия на зрителя. Публицистическая острота нового клоунского репертуара, его яркая зрелищность позволили именно в цирке видеть прообраз того «агиттеатра», рождению которого представители левого крыла искусства считали необходимым способствовать в первую очередь. Если традиционный цирк был равнозначен театру-балагану, в который ходят только развлекаться, то цирк реформируемый пытался решать проблему активной социальной пропаганды.
Ведь каждый номер акробатов, гимнастов, эквилибристов, жонглеров, конных наездников уже был агитацией за спорт, за физическую культуру, за гармоничного человека, причем агитацией наглядно-увлекательной и достоверно убедительной.
На повестке дня стояло сближение традиционного мастерства манежа с общими задачами физкультурного строительства Страны Советов, с приметами современной трудовой деятельности, стали своеобразным творческим протестом против сложившейся на манеже репертуарной ситуации. Даже потеряв надежду переспорить Рукавишникову и Дарле (который уже стал гражданским мужем Рукавишниковой и занял должность директора обоих московских цирков), разговорные клоуны не потеряли веру в то, что избранный ими путь верен. Дождавшись окончания контракта, они покинули Москву, оставили цирки, национализации которых так бескорыстно содействовали. И уже на других манежах продолжали развивать вновь обретенные формы своих преображенных жанров[29].
Эпоха бурного вторжения в цирковые представления и номера средств воздействия сопредельных искусств, обычно именуемая «театрализацией цирка», ушла, казалось, безвозвратно. Утвердилась даже традиция вспоминать постановочную работу первых сезонов государственных цирков как грубейшее нарушение самого своеобразия мастерства манежа. Но, когда прошло совсем немного лет и страсти улеглись, обнаружилось, что цирковое зрелище, несмотря на свое техническое совершенство, так же далеко от отображения современности, как постоянно попрекаемые левой критикой академические театры.
Было очевидно, что для создания нового – советского! – цирка необходимо воспитать нового артиста, создать школу. Об этом постоянно говорили на всевозможных собраниях и заседаниях, принимали декларации, делали всевозможные запросы.
Окончилась Гражданская война, стала налаживаться жизнь. Был создан Союз Советских Социалистических Республик. Ремонтировались, строились, открывались цирки – уже государственные. Но по-прежнему цирковым программам катастрофически не хватало номеров.
Спасение пришло по-цирковому неожиданно.
К советскому правительству через Наркомпрос обратился председатель Интернациональной артистической ложи Боб О’Конор. Он просил помочь немецким артистам, испытывающим жесточайшую безработицу, пригласить их для работы на манежах СССР. Центральный комитет Союза работников искусств (ЦК РАБИС), ссылаясь на интернациональную солидарность, добился выделения валюты.
Проблема нехватки артистов разом была решена. Все призывы и намерения сделать цирк советским, воспитать новых, советских артистов завершились приглашением зарубежных гастролеров. Объявление НЭПа позволило цирковому руководству разом решить проблему комплектации программ во всех 10 (включая два московских) госцирках страны. Упирая на бедственное положение зарубежных циркачей, на необходимость в духе международной солидарности поддержать их как жертв капитализма, от Наркомфина добились валютного кредита. В Россию буквально хлынули лучшие номера и аттракционы мирового цирка (оплачивались они золотыми рублями). При шапито были организованы общежития для участников чуть ли не через неделю меняющихся программ. Госцирки (а иностранцы работали по всей стране) стали рентабельными.
Зрители получили возможность увидеть лучшие из имевшихся тогда в мире номера (заполучить работу на родине их исполнителям было крайне затруднительно). Иностранные коллеги поразили, конечно, прекрасными костюмами, новой аппаратурой, трюковыми комбинациями и, главное, построением своих номеров. Пресса наперебой хвалила их, называя новомодным словом – скетчи. Это были как бы сценки из жизни тех стран, откуда артисты приехали. Зрители бросились на представления.
Над форгангами новых цирков для нового зрителя висели кумачовые лозунги «Цирк массам». ЦУГЦ, как хозрасчетный трест, рапортовало о все растущей доходности предприятия. Финансовое благополучие позволяло советскому цирку существовать и без советских артистов.
Контролирующие органы словно забыли, что надеялись совсем недавно на превращение цирка в своеобразную академию для трудящегося народа. К тому же получать доход Цирко-трест, существующий на правах самоокупаемости, спокойно мог, не создавая что-нибудь новое, а просто приглашая исполнителей уже существующих номеров. Те м более что вновь открытые торговые связи с заграницей позволили контрактировать зарубежных исполнителей. Призывы и обещания создать нового артиста для нового цирка поутихли.
Мало того, идея создания нового цирка (для чего и была проведена его национализация) была отброшена и забыта. Все были покорены появлением заполнивших чуть ли не всю программу, прекрасно экипированных, обладающих новой аппаратурой и трюками под модную музыку зарубежных номеров.
Газетные публикации со свойственной им категоричностью утверждали: «…усилия мистера Дарлеэ, директора московских цирков, возродить ветшающее в России цирковое искусство не пропали даром. Путь к возрождению взят правильный (выделено автором. – М. Н.): артобмен с заграницей»[30]. То , что возрождался не отечественный цирк, а старая система проката номеров, никто не замечал. Или не хотел замечать.
Никто, кроме отечественных артистов. И не только начинающих, которым иностранцы закрыли доступ на столичные манежи, но и тех, которые уже успели добиться популярности и самоотверженно включались во все мероприятия по превращению цирков в государственные. Они после упорной, но безрезультатной борьбы просто уехали из Москвы. Ведь несмотря на то, что шел уже четвертый сезон национализации, государственными оставались, как и в начале, только два столичных цирка. Все остальные по всей стране, приходящей в себя после Гражданской войны, эпохи военного коммунизма и разрухи, оставались частными или находились в распоряжении Коллартов. В них-то отечественные артисты и старались преобразить свои номера и воспитать учеников. Мечту о новом цирке и новых артистах мастера манежа не оставили. Но и те, кто вынужден был продолжать выступления в Москве, постоянно экспериментировали со своими номерами.
Разумеется, для русских профессионалов четкое, даже сюжетное построение номера не явилось неожиданным откровением. Погружение исполнителей номеров всех жанров в угадываемую бытовую ситуацию или сюжет книжной новинки завоевало популярность еще в предвоенные годы.
Опишу некоторые номера.
Высокопрофессиональный воздушный полет Петра (по афише – Жоржа) Руденко. К 1925 г. его труппу перестали афишировать как «Четырех чертей» или «Горных орлов». И хотя форганг уже не украшала огромная голова черта с широко раскрытым ртом, из которого в клубах полыхающей пламенем измельченной в порошок канифоли выскакивали один за другим окутанные красными плащами артисты, номер по-прежнему окружал ореол большой романтики и не меньшего риска. Руденко стремился найти в своем жанре высокий академический стиль.
Четверо отлично сложенных, затянутых в строгое белое трико гимнастов, по приставной лестнице взобравшись на предохранительную сетку, разделялись на две группы и по веревочным лестницам поднимались под купол на два расположенных друг против друга мостика. Сразу же шла обычная для композиции полетов тех лет разминка (на профессиональном жаргоне – променад), когда все вольтижеры один за другим, обхватив руками трапецию, летали на ней, как бы проверяя путь дня исполнения будущих трюков, и возвращались на мостик. У Руденко во время этой комбинации все партнеры практически менялись местами, так как улетали они с одного мостика, а приходили, успев в каче сделать эффектный (но технически несложный) трюк, на другой. После этого все четверо гимнастов собирались вместе, и в развитии комбинации один из них летел обратно, к опустевшему мостику, но не взмывал над ним, чтобы тут же спрыгнуть, как было принято, а, словно не рассчитав траектории, ударял его носками ног снизу. Мостик неожиданно раскалывался надвое и разлетался в стороны (последний из покинувших его гимнастов успевал незаметно вынуть шпеньки, скрепляющие половинки мостика, которые, после того как они разъединялись, на специальных тросах униформисты растягивали по бокам дистанции). Тут же сверху спускали ловиторку, и гимнаст в повторном каче цеплялся за нее носками ног и бросал трапецию.
Ловитор в полете Руденко висел не в подколенках, как это практиковалось обычно, а на специальных крючках, укрепленных у подъемов ног. Такое положение гимнаста, висящего вниз головой во всю длину тела, и было зрелищным, и эффектно увеличивало радиус его собственного кача, а тем более кача с пришедшим к нему в руки вольтижером.
Вторая, самая крупная комбинация номера строилась как непрерывные полеты вольтижеров, которые, отходя от трапеции в руки ловитора и возвращаясь от него на трапецию, всегда безукоризненно совершали различной сложности трюки.
Как и во всех полетах, гимнасты заканчивали этот номер прыжками с трапеции в сетку.
Помимо оригинального начала полет Руденко подкупал манерой исполнения. Все партнеры летали в строгой спортивной манере – школьно, как принято говорить в цирке. Вытянутые носки, сомкнутые колени, сильные махи, высокие, безукоризненные возвращения на мостик с трапеции и, прежде всего, отточенные трюки. Не меньшее внимание Руденко обращал на художественную завершенность номера, не пренебрегая ради этого ни единой мелочью. Эта забота диктовалась стремлением к художественной целостности номера. Он, сопровождаемый широкой танцевальной мелодией в исполнении оркестра, становился единым, непрерывно развивающимся движением, передающимся от вольтижера к вольтижеру.
Путь, избранный Руденко, убеждал в способности циркового номера, не выходя за пределы специфических средств воздействия, подняться до уровня целостного произведения искусства со своеобразной композицией и драматургией взаимоотношений партнеров. Для современного нам цирка построение самых широких образных ассоциаций на материале чисто трюковом стало излюбленным и разнопланово используемым приемом. В середине 1920-х гг. к подобной возможности только присматривались.
Скупым и точным отбором средств воздействия в создании современного образа привлекал и лучший в те годы номер эквилибристов на переходной лестнице. Иногда этих артистов анонсировали как «братьев Мильва», но это родство было чисто рекламным. Такой же уступкой афише являлось их представление в качестве датских или бельгийских артистов. Номер исполняли грузин Василий Мильва и латыш Ференц Нандор.
Двое мужчин в обычных вечерних костюмах (для большинства зрителей – очень нарядных) и белых рубашках с галстуками-бабочками появлялись из форганга и, пройдя вперед, опускались на стулья по обе стороны небольшого стола. Один из них, достав портсигар, предлагал папиросу партнеру, брал сам и закуривал. Потом, не вставая со стула, протягивал, упершись локтем в столешницу, руки своему партнеру. Мильва (партнером был он), нарочито медленно отрываясь от стула, выжимал стойку в его руках (в цирке такая стойка называется силовой). Сидящий так же неспешно отрывал свои локти от столешницы, поднимая партнера на вытянутых руках над головой и, медленно сгибая руки, опускал его так низко к своей поднятой голове, что тот мог прикурить от его дымящейся папиросы. После этого Мильва, вновь вознесенный на длину своих и партнера рук, так же медленно в плавной дуге силовой стойки возвращался на свой стул за столом. Сделав несколько затяжек, партнеры одновременно гасили папиросы, вставали и снимали пиджаки.
Вторая комбинация номера Мильва шла в развитие уже заявленных зрителю художественных и трюковых позиций. Скинув пиджаки и оставшись в рубашках с рукавами, подобранными по моде тех лет пружинными кольцами, артисты медленно выжимали стойки, сначала руки в руки и тут же голова в голову. Сразу же, отведя руки в стороны, нижний нес верхнего партнера к укрепленной отвесно на трехступенчатом пьедестале переходной лестнице. Комбинация складывалась из двух переносов партнера по этой лестнице, растянутой посреди манежа (с подъемом по одной стороне, поворотом и спуском по другой), сначала копфштейн голова в голову, а затем – в стойке на руле высокого перша (его нижний конец представлял из себя развилку, надеваемую на плечи и упирающуюся в пояс). Оба трюка выполнялись легко, без утрирования их сложности и опасности.
Закончив последний трюк, эквилибристы тут же надевали пиджаки, покидали манеж, как и появлялись на нем, в строгих вечерних костюмах.
Номер, демонстрируя возможности построения манежного образа артиста, основанного исключительно на отборе трюков и характера их исполнения, убедительно показывал скрытые возможности развития классических жанров цирка. Разумеется, возможности цирка, как и его жанры, разнообразны.
Розетти (пусть иностранный псевдоним не обманывает, их фамилия – Даниленко) афиши обычно анонсировали с наивной категоричностью: «Шуретта и Жорж – универсальные артисты». Действительно, они прекрасно танцевали, пели, профессионально играли на музыкальных инструментах, были актерски одарены и блестяще владели жанром. Но главным достоинством, признаком подлинной универсальности следует признать их умение (или мастерство) слить воедино все свои разноплановые дарования в процессе исполнения номера.
Перед зрителями представали их молодые современники, бесконечно увлеченные друг другом. Шуретта и Жорж не разыгрывали сцены ухаживания (столь модной основы большинства цирковых сюжетных номеров), но все, что они делали на манеже, совершали как бы друг для друга. Взбежав на противоположные мостики, юноша и девушка, вооружившись специальными, повернутыми набок зонами для баланса, по очереди выходили на туго натянутую проволоку, всякий раз демонстрируя новый способ передвижения по ней. Это были то мелкий, дробный шаг, то широкие, летящие прыжки, то плавные пируэты, то высокие батманы. Если Шуретта всякий раз возвращалась на свой мостик по проволоке, то Жорж часто соскакивал на манеж и по нему уже добирался к себе на мостик или неожиданно взбирался на мостик к партнерше. Номер был полон непрерывного движения.
Даже на мостиках артисты не знали ни минуты покоя. Они пританцовывали, напевали, успевали улыбнуться кому-то в зрительном зале, и все это одновременно с безукоризненным исполнением трюков. Например, Жорж брал Шуретту в плечи, нес упругим, скользящим шагом по проволоке, пританцовывая и напевая при этом под аккомпанемент скрипки сестры парижские кабаретные новинки.
Цирк во всем оставался цирком. Даже когда он стал государственным, с ним постоянно случался какой-то «цирк»: в 1925 г. почему-то отмечалось его пятилетие.
Скорее всего, это было связано с очередной реорганизацией – созданием Госцирктреста. Как ни солидно выглядело новое название на бумаге, на деле оно означало, что цирки сняли с государственной дотации и обрекли на самоокупаемость.
К этому времени все призывы и намерения сделать цирк советским, воспитать новых, советских артистов завершились приглашением зарубежных гастролеров.
От цирка всегда настойчиво ждали виртуозных трюков в невероятной при этом подаче. Изменение статуса советского манежа этих ожиданий не отменяло.
Сама практика мастеров манежа – как зарубежных, так и советских – на время перечеркнула досужие рассуждения о дурном воздействии театра на цирк. Чем дальше, тем очевидней становилось, что и театр, и цирк (каждый в средствах своей выразительности, разумеется) стремятся к образному отображению борьбы и свершений своего времени, своей страны.
Эта политическая, но утверждаемая в средствах образно-убедительных миссия, осознаваемая артистами на их международных гастролях, никак не волновала руководителей цирка при составлении прокатных программ внутри страны. Вопреки непрекращающимся заверениям в необходимости создавать отличный от других советский цирк, их прежде всего занимала доходность доверенной их управлению отрасли культуры. Пролетарской культуры, как постоянно подчеркивалось в ту эпоху.
Разумеется, проблемы воспитания советского циркового артиста, о которой не уставали говорить и газеты, и сами цирковые начальники, это не решило. Как не решало самого факта материального благополучия и занятости мастеров отечественного цирка.
Впрочем, сами руководители ЦУГЦ придерживались иного взгляда. «Что касается безработицы русских артистов, то таковая с приездом иностранных артистов нисколько не увеличивается. Обратно, приезд иностранных артистов дает возможность увеличивать количество цирков, т. е. площадки, на которых могут работать иностранные и русские артисты, увеличивая этим и спрос на последних, – заместитель председателя Управления А. М. Данкман, опытный управленец и юрист по образованию, умел дать неожиданный поворот любой обсуждаемой теме. – ЦУГЦ явилось первым государственным учреждением, организовавшим импорт иностранных артистов, повлекший за собой экспорт русских артистов за границу»[31].